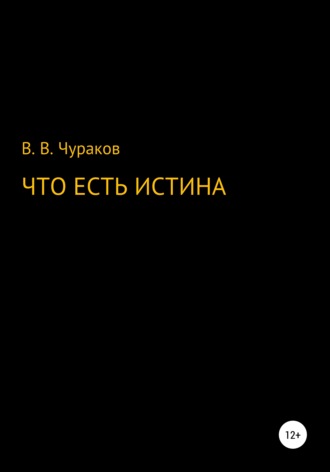
Что есть истина
Относительно конечных вещей несомненно, что они должны быть определяемы посредством конечных предикатов, и здесь рассудок со своей деятельностью оказывается на своем месте. Он, будучи сам конечным, познает лишь природу конечного.
Рассудочное мышление является основой и догматизма, потому что согласно природе конечных определений, оно должно принимать, что из двух противоположных утверждений, одно должно быть истинным, а другое – ложным. Догматизм в более узком смысле состоит в том, что удерживаются односторонние рассудочные определения и исключаются противоположные определения. Это вообще строгое “или”– “или”, согласно которому утверждают, например, что мир или конечен или бесконечен, но непременно лишь одно из этих двух. Истинное же, разумное есть, напротив, как раз то, что не имеет в себе таких односторонних определений и не исчерпывается ими, а как целостность, содержит внутри себя совместно как снятые те определения, которые догматизм признает в их раздельности незыблемыми и истинными.
Приписывание предиката предмету, который рассудок должен познать, использование готовых определений, находящихся в представлении, являются внешней рефлексией о предмете. Истинное познание предмета должно быть, напротив, таким, чтобы определения предмета соответствовали его содержанию, а предмет не получал своих предикатов извне.
Рассудок вносит разделение (раскол) в определенность явления на внешнее и внутреннее. Внешнее – непосредственность предмета (явления), как момент абстрактной всеобщности. Внутреннее – особый закон, как особенная форма необходимости, в котором определения оказываются в субъективной сфере мышления как моменты тождества мышления с самим собой. Разделение на внешнее и внутреннее составляет противоречие. Это означает, что в рассудочном мышлении выступает противоречие, состоящее во внешнем восприятии единичности бытия и внутренней особенности мышления. Внешнее – предмет и особенное – мышление находятся во внешнем отношении друг к другу – одно вне другого.
Рассудочное сознание от наблюдения непосредственной единичности и от смешения единичного и всеобщего стремится к постижению внутренней сути предмета и определяет предмет таким же способом, как самого себя, как “я”. Рассудочное сознание находит в законах, присущих окружающему миру, свою же собственную природу. Познание начинается с того, что рассудок схватывает наличные предметы в их определенных различиях, соотносит определения предметов, переходит от одного определения к другому, устанавливает их тождественность или различие. Без рассудочного мышления не достичь твердости и определенности в теоретической и в практической деятельности. Человек с твердым характером – это рассудительный человек.
Следует сказать, что рассудок представляет существенный момент в образовании. Образованный человек не удовлетворяется чем-то неопределенным, а схватывает предметы в их четкой определенности. Необразованный человек, напротив, не уверен в определенности чего-либо.
Дальше установления наличия противоположности определений рассудок не идет и останавливает развитие понятия и сознания. Для рассудка всякое определение, противоположное простому тождеству, есть лишь ограничение, отрицание как таковое. Все исторические формы истребления человека основывались на действии рассудка, разделяющего на непримиримое “или” – “или”. Рассудочное мышление не знает противоположности различия моментов и развития их до единства, так как для этого нужно, чтобы моменты, составляющие противоположность, выступили в одном и том же определении. Таким образом, рассудок отрицает развитие моментов противоречия до единства и разрешение противоречия.
Рассудок не может установить отношение, связь и единство различенных моментов. Он говорит, что единство двух различенных моментов находится в чем-то третьем, выходящем за их пределы. В чем единство индивидов в гражданском обществе? Рассудок отвечает, что в самом обществе искать единство невозможно, что единство индивидов – в государстве, т. е. оказывается в третьем моменте, и связь остается внешней.
Имеют место и другие утверждения рассудка: например, что бог есть абсолютная связь понятия и действительности; что конечные вещи, имеющие предел, находящиеся в зависимости, нуждаются для своего существования в содействии бога или чего-то другого.
Всеобщие свойства предмета определяются рассудком как субстанция различий, как устойчиво существующая сущность предмета.
В сфере отношения конечного к конечному, которое имеет место в чувственной и рассудочной форме сознания, нет подлинной необходимости, т. е. такой необходимости, которая достигла бы всеобщности. Вследствие этого в этой сфере нет и свободы. Имеются лишь проявления необходимости, с одной стороны, и проявления свободы, с другой, которые есть произвол и в теоретической и практической деятельности. Почему произвол? В отношении конечного к конечному есть один очень сильный момент – абстрактная всеобщность в отношении к себе самой. Она и создает здесь полную иллюзию развития свободы. Ведь как абстрактная всеобщность относится к содержанию? С одной стороны, абстрактная всеобщность вследствие непосредственного единства с собой, может быть вроде бы абсолютно равнодушной к любому содержанию, может быть направленной лишь на себя. Это создает фикцию свободы. С другой стороны, лишь только обнаруживается, что абстрактная всеобщность не может существовать вне отношения с каким-нибудь содержанием, она вынуждена обратиться к содержанию. Абстрактная всеобщность не существует благодаря себе самой. Содержание может выступить для нее исключительно как эмпирически многообразное. В отношении своего содержания абстрактная всеобщность принимает позу превосходства и самодовольства, т. е. позу высокомерия, аналогичную той, которая свойственна всем представителям власти. Это аналогично отношениям господина и раба, нанимателя и наемного, начальника и подчиненного, государства и общества. Но, увы, эта абстрактная всеобщность без содержания обойтись не может и гибнет сама. Например, государство хочет сохранить себя как абстрактную всеобщность, поэтому старается подвергнуть полному отрицанию гражданское общество. Если бы это отрицание было доведено до абсолютной тотальности и осуществилось в действительности, то исчезло бы само государство. Произвол государства не может завершиться всеобщностью. Это не отношение свободы и необходимости. Государство должно потерять свою абстракцию и получить определение со стороны самого гражданского общества. Гражданское общество должно самоопределить себя до всеобщности и тем самым подвергнуть отрицанию абстракцию государства. Следует сделать и еще один вывод: свобода есть процесс внутренней необходимости, выявленная вовне внутренняя необходимость. Поэтому подлинно всеобщая свобода в себе самой необходима, а не необходима благодаря чему-то вне неё. Быть свободным – значит быть у себя самого, если даже ты находишься в отношении к другому и взаимодействуешь с другим.
Наряду с моментом отношения необходимости и свободы не менее важным является момент отношения абстрактности и конкретности. Во всех способах чувственного и рассудочного познания имеется связь и одновременно различие формы и содержания. Конкретное обычным (нефилософским) сознанием определяется как форма чего-то разнообразного, т. е. когда конечное существование берется в форме всей его определенности, многосторонней целостности всей эмпирической чувственности. Отсюда следует определение обыденным сознанием истины. Достаточно вспомнить ленинский пример “диалектики со стаканом”: стакан и такой, и сякой и может быть употреблен и для этого, и для того и т. д. Говорят, что это и есть диалектическая логика, которая имеет дело с конкретной истиной! Не случайно речь идет о стакане, т. е. о предмете мира эмпирического существования, который выступает для чувственного сознания и опыта.
Уже искусство начинает иметь дело с конкретно-всеобщим, а религия – с всеобщим единством, пусть только представляемыми нами и имеющими чувственное основание. Но откуда взялись всеобщее и единство во вселенной? Представление не может ответить на этот вопрос. Следовательно, чувственный момент не имеет самостоятельного значения. Возникает и другой вопрос: где мы имеем дело с явлениями вселенной, а где с ее сущностью? На этот вопрос не могут ответить ни опытные науки, ни точнейшие физика и математика. Ведь физика и математика занимаются предметами, которые ими созданы, а уверяют себя и других, что эти предметы существуют сами благодаря себе, являются причиной, основанием себя самих. Эти науки просто обманывают себя и других! Причиной себя самого не выступает ни один ограниченный предмет. Только всеобщее! Опытная наука, претендуя на то, что имеет дело и истиною, на самом деле имеет дело только с проявлениями истины и только с проявлениями внутренней необходимости.
Субъект, “я” в объекте (вещи или другом субъекте) находит образ своей собственной самости, обнаруживает непосредственную тенденцию развиться до самосознания.
Для сознания внутреннее в предметах есть мысль, или же понятие. Тогда сознание имеет своим предметом мысль, или свою собственную форму, или рефлексию, т. е. вообще самого себя.
Внутреннее различие и самостоятельность субъекта и объекта в сознании исчезают, потому что мышление получает в качестве объекта сознание самого себя.
Именно до ступени рассудочного сознания развивается сознание в учениях современных философов. До разума современные философы не поднялись. Самосознанию и следующей ступени развития сознания – разуму, в государственном строительстве и развитии советского общества, в решении задачи формирования нового человека практически не уделялось внимание. Но развитое сознание обусловливает превосходство над неразвитым сознанием в любой сфере теоретической и практической деятельности человека. Вероятно, что партийная номенклатура и в Советском Союзе это понимала и тормозила теоретические исследования в сфере изучения развития сознания. В результате к управлению государством пришли “говоруны”, тупые партийные и комсомольские работники, озабоченные только личными амбициями, а не делом. Они и были использованы спецслужбами США и Запада для разрушения Советского Союза. Стяжательство и ложь власти привели к разрушению государства. Стяжательство, некомпетентность и ложь власти привели к разрушению государства. Запад с помощью и через руководство СССР создавал условия для увеличения разрыва отношений между людьми, между народом и властью с целью развала государства.
История показывает, что сила государства только в людях. Доказательством этого служат победы русского народа над наполеоновской Францией и народов Советского Союза и его социалистической экономики над фашистской Германией и капиталистической экономикой всей Европы. Советские и русские люди оказались сильнее противника, прежде всего, уровнем развития сознания, духа. Именно русскому народу были ближе и дороже всеобщие человеческие ценности и, прежде всего, свобода, стремление к победе над захватчиками. И.В. Сталин это ясно понимал, произнося тост в честь русского народа в день Парада Победы.
Но человек только на словах был объявлен высшей и единственной целью вселенной, творением бога, и вдруг оказался ничтожной формой средства для чего угодно вне человека. Политики и власть стали использовать государственный кнут как средство внешнего воздействия на людей. Люди перестали верить друг другу и власти.
Государственная власть в России не признает на деле свобод и прав человека. Свободы и права человека власть нагло ограничивает. Конституция, федеральные законы, тысячи законов, постановлений и подзаконных актов, огромное количество комментариев к ним противоречат друг другу, допускают различные толкования, поэтому свои свободы и права гражданам и юридическим лицам приходится отстаивать с помощью юристов через суды.
Старшему поколению предоставлена свобода вымирать, а молодое поколение не имеет возможностей для воспроизводства, не может планировать свое будущее. Почему народ терпит эту власть? Даже не каждый человек в России сейчас способен задать себе этот вопрос.
Итог предательских в отношении к народу действий властей известен – крах государственной идеологии, распад единства общества, ослабление государства. В настоящее время перспектива уничтожения и развала России осталась. Запад мстит нам за великое советское прошлое. Россия может устоять как великая страна, а русский народ может уцелеть как великий народ только при условии, что власть будет работать в интересах народа. России нужна другая экономическая и финансовая система, нужна другая социальная организация, другая Конституция.
В религиозной духовной жизни общества прочность отношений между церковью и верующими также вызывает опасения из-за имеющихся противоречий и разных толкований религиозных учений. Например, утверждения, что человек – “раб божий“, что “бог накажет и покарает“, – есть величайшая ересь в православии. В учении Христа индивидуальный, личный дух обладает по своему существу бесконечной абсолютной ценностью; бог хочет спасти всех людей. В учении Христа перед богом все люди равны. Эти определения делают свободу человека независимой от происхождения, сословия, образования и т.д. Не так обстоят дела в православии и других религиозных учениях, да и в нашем государственном устройстве.
Самосознание
Для рассудочного сознания каждое единичное есть абсолютное и неизменное. Рассудок (здравый смысл) еще не способен из единичного определения диалектически развить ему противоположное определение. Такое состояние сознания не согласуется с деятельность мышления, так как деятельность мышления полагает и снимает различные определения. Развитие рефлексии субъекта, т. е. способности его мышления и сознания осознавать определения и отношения одного определения к другому, характеризует уровень развития субъекта.
С одной стороны, в сознании единичность и противоположная ей всеобщность восприятия, так же как и рассудок выступают в качестве моментов, т.е. абстракций и различий, которые для сознания ничтожны или суть не различия, а полностью исчезающие сущности. Сознание еще заполнено внешностью, объективностью, не зависящей от субъекта.
С другой стороны, в сознании мы имеем самосознание, которое есть истинная сущность, состоящая в том, что субъект все познает как принадлежащее ему.
Каждый из нас способен рассматривать свое сознание как предмет, но не каждый стремится достичь единства противоположных абстракций, определений и представлений, положенных в сознании рассудочным мышлением.
Реализуя стремление к единству внутреннего и внешнего, сознание через деятельность мышления снимает противоположность между сознанием как непосредственным предметом чувственной достоверности и сознанием самого себя как истинной сущностью, снимает противоположность я и мира, дает себе объективность и снимает свою одностороннюю субъективность – становится равенством самого себя с собой – самосознанием.
Основанием познания и понимания является взаимодействие моментов особенного и всеобщего в сознании и мышлении. Сознание, как предмет для себя, выступает в определениях особенного. Познание предмета ограничено моментом особенности понятия, определяющего различия предмета. А на сознание субъекта, познающего предмет и тождественного предмету, приходится момент всеобщности. Это соотношение сохраняется и в практическом отношении к миру: единичное не может господствовать над особенным, но особенное господствует над единичным; всеобщее может господствовать над единичным и особенным, единичное и особенное не могут господствовать над всеобщим. Только единство в сознании всеобщности и особенности определяет содержание сознания, дает понимание, познавание предмета.
Развертывание различий, движение формообразований в сознании становится процессом или жизнью. В жизни внутреннее не остается абстрактно-внутренним, но переходит в свое обнаружение. Жизнь человека должна быть понята как самоцель, как цель, которая в себе самой имеет свое средство, как тотальность, в которой каждое звено, отличное от другого звена, есть одновременно и цель, и средство. На основе сознания этого диалектического, этого живого единства различенного рождается и развивается самосознание – сознание для себя самого предметного – знание об истине природного, о “я”. Чувство единства с самим собой снимает свою противоположность “иному”. Это подвижное состояние есть сохраняющееся целое или индивидуальность. Деятельность самосознания состоит в сообщении себе истинной достоверности самого себя и самостоятельности. Сознание, которое характеризует свой предмет – сознание как негативное есть, прежде всего, потребность познавать на опыте свою самостоятельность. Сознание стремится к существенному сознанию своего для-себя-бытия через потребность деятельности.
Субъект есть деятельная и живая внутри себя субстанция. Эту в себе и для себя существующую субстанцию, сохраняющую себя, еще Сократ (род. 469 до н. э.) определил как цель и более точно – как истинное, как благо, которое непременно должно быть познано человеком. То, что человек свободен сам по себе, по своей субстанции, по самосознанию, что человек рожден свободным, не знали в древности, хотя лишь это понятие есть источник права. Субъект предполагает в качестве своей цели осуществление и действителен только через свое осуществление. Природа жизни субъекта состоит в том, чтобы быть для себя и проявляется в самодвижении своей сущности. Для субъекта характерно становление себя самого. Субъект становится субстанцией. Для себя человек таков только как развитый разум, который превратил себя в то, что он есть в себе. Лишь в этом состоит действительность разума. Этот результат есть простая непосредственность, ибо он есть обладающая самосознанием свобода, которая покоится внутри себя. Знание и самопознание субъекта получают свое завершение лишь благодаря своему становлению. Они имеют характер непосредственности и поэтому обладают существованием, основанием которого является мышление. Знание и самопознание это рефлексия бытия в себя самого. Образование субъекта развивает его самосознание, т. е. порождает становление субъекта и рефлексию в себя, прохождение определенного пути.
В деятельности для сознания образуется новая форма самосознания: сознание, которое есть для себя сущность в бесконечности или в чистом движении сознания, – сознание, которое мыслит или есть свободное самосознание. Ибо мыслить значит быть для себя своим предметом. – Для мышления предмет движется не в представлениях или образах, а в понятиях, то есть в таком различаемом в-себе-бытии, которое непосредственно для сознания от него же не отличается. Представленное, оформленное, сущее как таковое имеет форму бытия чего-то иного, нежели сознания; но понятие есть нечто сущее, – и это различие, поскольку оно в самом сознании, есть его определенное содержание, постигнутое в понятиях. Сознание остается непосредственно сознающим свое единство с этим определенным и различенным сущим; не так, как при представлении, когда сознание должно особо вспомнить, что это его представление; а так, что понятие для меня – непосредственно мое понятие.
Сознание на опыте узнает себя действительным и действующим сознанием, для которого истинно то, что оно есть в себе и для себя. В результате в сознании возникает представление о разуме, о достоверности сознания, достоверности того, что в своей единичности оно есть абсолютно в себе или есть вся реальность. Единичное самосознание это достоверное знание о себе самом как сущем. В сопоставлении с этим знанием предмет обладает определением только чего-то мнимо самостоятельного, в действительности же ничтожного. Потребность снять противоречие между знанием себя и различием этого знания от сознания наличия предмета есть желание и стремление – вожделение сознания. Отношение к объекту является для субъекта необходимым. Субъект усматривает в объекте свой собственный недостаток, свою собственную односторонность, видит в объекте нечто принадлежащее к его собственной сущности, и, тем не менее, ему не хватающее. Самосознание может снять это противоречие, ибо оно есть абсолютная деятельность. Оно изучает и познает предмет. Вследствие удовлетворения желания знать полагается в-себе-сущая тождественность субъекта и объекта, односторонность же субъективности и мнимая самостоятельность объекта оказываются снятыми. При этом самосознание есть являющееся понятие самого объекта. Удовлетворяя потребность вожделения, самосознание приходит к самоощущению того, что оно как единичный субъект существует для себя, т.е. к неопределенному понятию о субъекте, связанному с объективностью. Подобно предмету познания, и самосознание и его удовлетворение необходимо есть нечто единичное, преходящее, уступающее место стремлению к познанию, просыпающемуся все с новой силой. В этом состоит процесс объективирования, постоянно остающийся в противоречии с всеобщностью субъекта и, тем не менее, вследствие чувствуемого недостатка непосредственной субъективности, все снова пробуждаемый, никогда не достигающий своей цели абсолютно, но приводящий лишь к прогрессу в бесконечность. Овладевая предметом, субъект снимает свой собственный недостаток, своё распадение на безразличное равенство “я “= “я “ и на “я “, отнесенное к внешнему объекту. Субъект придает своей субъективности объективность, а свой объект делает субъективным. Чувство самого себя, возникающее у “я” в процессе удовлетворения, как отрицание непосредственности и единичности содержит в себе определение всеобщности и тождества самосознания со своим предметом. Самосознание подвергает отрицанию свою собственную непосредственность, посредством определения инобытия противопоставило себя самому, другое наполнило своим “я”, сделало свое “я “ свободным объектом, некоторым другим “я” – тем самым противопоставило себя самому себе в качестве различенного от себя “я”, но именно этим и возвысилось над себялюбием только разрушающего сознания.
Противоречие самосознания. Это “новое” самосознание есть для (прежнего) самосознания непосредственно как другое – в себе я созерцаю непосредственно наличный, совершенно самостоятельный, другой объект. Здесь уместно говорить об удвоении сознания (или об удвоении самосознания). Так как “я” есть всеобщая, абсолютно-непрерывная, никакой границей не прерванная, для всех людей общая сущность, то связанные друг с другом самосознания, образуют единое тождество. Тем не менее, эти самосознания представляют собой два “я”, которые в совершенной косности и недоступности друг для друга существуют каждое как нечто в-самое-себя-рефлектированное, одно от другого абсолютно различенное и непроницаемое. Это противоречие есть борьба; поскольку другое есть для меня непосредственное другое наличное бытие. Я поэтому стремлюсь снять эту его непосредственность. Точно также и “я” не может быть признано как непосредственное, но признается лишь, поскольку я сам снимаю в себе свою непосредственность и благодаря этому даю моей свободе наличное бытие. Но эта непосредственность есть телесность самосознания, в которой оно, как в своем внешнем знаке и орудии, имеет чувство самого себя, равно как и свое бытие для других, и свое опосредующее с ними отношение.
Признание самосознания другого субъекта. Для преодоления противоречия самосознания необходимо, чтобы противостоящие друг другу самосознания в своем наличном бытии, в своем “бытии-для-другого” полагали бы себя и взаимно признавали бы себя за то, что они есть в себе не только природные, но и свободные существа. Только так осуществляется истинная свобода, ибо в виду того, что эта последняя состоит в тождестве меня с другим, я только тогда истинно свободен, если и другой также свободен и мной признается свободным. Эта свобода одного в другом соединяет людей внутренним образом, тогда как, наоборот, потребность и нужда сводит их вместе только внешне. Люди поэтому стремятся к тому, чтобы найти себя друг в друге. Это не может произойти до тех пор, пока они остаются во власти своей непосредственности, своей природности, ибо природность разобщает их друг с другом и препятствует им быть друг в отношении друга свободными.
При борьбе за независимость друг от друга и за признание одного самосознания другим свобода требует того, чтобы субъект и своей природности не давал проявиться и природности других тоже не терпел бы. Но, напротив, относясь равнодушно к наличному бытию, он и свою и чужую жизнь ставил бы на карту для достижения свободы. Одного заверения в том, что обладаешь свободой, для этого недостаточно; только тем, что человек как себя самого, так и других подвергает смертельной опасности, он доказывает свою способность к свободе. Борьба за признание идет при этом на жизнь и на смерть; каждое из обоих самосознаний подвергает опасности жизнь другого и само подвергается ей, но только как опасности; ибо каждое самосознание направлено и на сохранение жизни, как наличного бытия своей свободы. Смерть одного, разрешающая противоречие, с одной стороны, абстрактным и потому грубым отрицанием непосредственности, оказывается, таким образом, с существенной стороны – со стороны имеющегося налицо признания, которое при этом снимается новым противоречием, и притом более глубоким, чем первое. Абсолютное доказательство свободы в борьбе за признание есть смерть. Уже одним тем, что борющиеся идут на смертельную опасность, они полагают как нечто отрицательное свое обоюдное природное бытие, доказывая, что они рассматривают его как нечто ничтожное. Смертью же природность фактически отрицается, и тем самым разрешается ее противоречие с духовным, с я. Такое разрешение противоречия имеет только отрицательный, а не положительный характер. Ибо, если из двух людей, борющихся друг с другом за свое взаимное признание, хотя бы один погибает, то никакого признания в отношении между ними не осуществляется. Тогда оставшийся в живых столь же мало, как и мертвый, существует в качестве признанного. Вследствие смерти возникает, следовательно, новое, еще большее противоречие, состоящее в том, что тот, кто доказал борьбой свою внутреннюю свободу, не достиг тем не менее никакого признанного наличного бытия своей свободы. Важно понимать – кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом.

