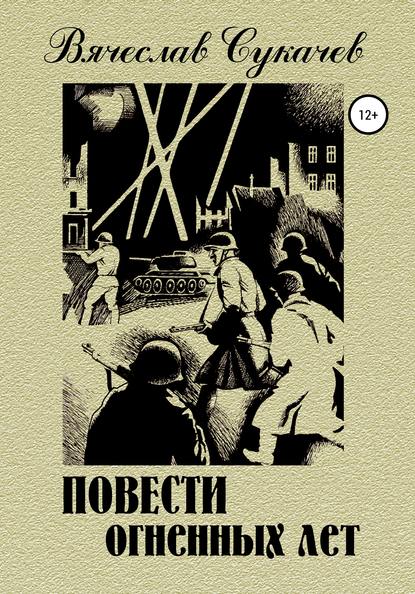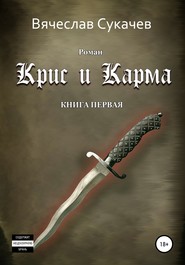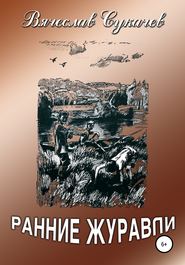По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повести огненных лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зар-раза!
– Обожгло, а кишки-то не железные, поди.
– Ничего… Крепче будут.
Серафима ела жадно, сама себе удивляясь, а Осип знай подкладывал ей кусочки повкуснее и добродушно смотрел, как она аппетитно и хорошо жует.
– Там, чай, мужики приставать будут?
– У меня пристанут!
– А как ты на фронт добираться будешь?
– Доберусь. Едут же туда фершала, вот я к ним санитаркой и попрошусь. Метрику я взяла…
– Одной метрики мало.
– Хватит. Там русская написано, вот и хватит.
– Еще выпьем?
– Нет, я не буду. Голова кружится, а еще ехать сколько надо.
Осип выпил и грустно сказал:
– Мать совсем плохая. Слегла. Наверное, её Тонька в город к себе заберет. А в городе без молока и воздуха она зараз пропадет.
– Ничего, бог даст – поправится. В войну люди завсегда сильнее становятся. Я это по себе знаю: как осерчаешь на кого, откуда силы берутся, кажется, горы бы свернул… А чего, Осип, ты ещё не женился? Вот бы невестка-то с матерью и осталась.
– А если такая, как ты? – усмехнулся Осип.
– И я бы осталась, – спокойно ответила Серафима, – ты бы пошел, а я осталась. Я и Матвею так говорила, а он не понимает! Уперся, как пень еловый, и все тут. Его броня завлекла хуже невесты.
– Как-то там будет? – вздохнул Осип. Хмель его не брал.
– Хорошо будет, – твердо сказала Серафима, собирая остатки еды. – Побьем мы его, вот увидишь. А так бы зачем нам и ехать?
Спали они, привалившись спиной друг к другу. Вахтенный матрос заглянул за ящик, увидел их, тихонько присвистнул, улыбнулся и ушел. А солнце взошло, заглянуло в закуток и осталось, мягко лаская их юные головы, и когда проснулись они, чего-то смущаясь и неловко отодвигаясь друг от друга, прикрылось тучкой, словно глаза смежило.
– Как бы дождя не натянуло, – сказал Осип.
– Нет, не натянет, – возразила Серафима, – вчера солнышко чисто садилось.
– Скоро приедем.
– Да пора уже.
– И чё ты не мужик?
– А зачем?
– Вместе бы воевать пошли.
– А один боишься, что ли?
– Тьфу, боюсь я! Мне за тебя страшно. Баба все-таки. Всякий обидеть может. Наш брат ведь разный бывает.
– Ты какого года, Осип?
– Двадцать второго, а что?
– Рассуждаешь, ровно мальчик ещё… Жениться надо было давно, Осип. Тогда мужик быстрее матереет.
Осип не ответил. Вдалеке, на высоком берегу, показались первые дома Хабаровска, и пароход приветствовал его длинным хриплым гудком.
На сборном пункте было людно, шумно и бестолково. Высокий плотный мужчина в военной форме хрипло выкрикивал фамилии, от толпы отделялись мужики, вставали в неровную шеренгу, переминались с ноги на ногу, приглядывались к соседям, крутили в руках кисеты и портсигары, но закурить не решались. Шеренги споро уводили куда-то, а на их место вставали новые мужики, и военный уже шепотом называл фамилии, придерживая горло рукой. Его щеки были синими от бритья, а глаза красные, как у голубя. На безымянном пальце правой руки поблескивало обручальное кольцо.
Уходили и уходили шеренги, а толпа на сборной пункте все не убывала. Уже давно выкликнули Осипа, и он твердо встал в строй, и твердым шагом ушел вместе с очередной шеренгой, а Серафима все не решалась подойти к военному. Она бы и решилась, так как ничуть не робела, и даже – наоборот, при виде такого количества народа, уходящего на фронт, еще большей решимостью воевать наполнилась, но от военного за версту пахло усталостью. Устал человек до изнеможения, и Серафиме совестно было беспокоить его.
Наконец наступила передышка. Военный достал платок, отер лицо и высморкался. Серафима робко тронула его за рукав. Он не услышал. Тогда она пальцем постучала по руке военного, и он, спрятав платок, медленно повернулся к ней.
– Что вам? – он смотрел и не видел Серафимы.
– Запишите меня, – попросила Серафима.
– Куда?
– На фронт. Я любую работу делать могу.
– На фронте, милая, не работают, а воюют. А вам не воевать надо, а рожать. По возможности – мальчиков. – Он подумал, еще раз взглянул на смущенное и решительное одновременно лицо Серафимы и, видимо, что-то поняв, махнул рукой: – Идите в военкомат, там посмотрят, а я этими делами не занимаюсь.
– Иванов! Кислицкий! Терапян! Воскогонов! Лобанов! – опять выкликал военный, и из толпы все выходили и выходили мужики, каменея скулами и тоскуя растерянными глазами…
Из военкомата Серафима вышла сердитой. Там никто ее и слушать не захотел. Все суетились, бегали по длинным полутемным коридорам, быстро и нервно курили, кричали, слушали сводку из огромного радиоприемника и опять как ошпаренные носились из кабинета в кабинет. Единственное, что ей посоветовала какая-то тощая и длинная женщина с накрашенными губами, правда, в военной форме, это обратиться в свой районный военкомат.
«Ну, это уж дудки, – сердито подумала Серафима, внимательно глядя в крашеный рот дамочки, – это уж ты сама туда поезжай, а я и так обойдусь. Не для того добиралась, чтобы оглобли назад поворачивать».
Она вышла из военкомата, спросила какого-то паренька, как ей добраться до вокзала, и решительно зашагала в указанную сторону. Город выглядел притихшим и пустым. Редкие прохожие не улыбались и не любопытствовали взглядом, ребятишки собирались в кружки и о чем-то по-взрослому беседовали, торопились машины, на станции часто и пронзительно гудели паровозы.
В первый момент станционная толчея сбила Серафиму с толку, закружила, ошпарила каким-то сумасшедшим ритмом. Но она быстро разобралась что здесь и к чему, выбралась из здания вокзала, протискалась по перрону и стала пробираться между бесконечно длинными составами. Были это все товарняки, тяжелые, длиннющие и грязные. Когда трогался какой-нибудь состав, земля вздрагивала, и грохот оглушал Серафиму. Она отскакивала в сторону, считала зачем-то вагоны, очень скоро сбивалась и растерянно смотрела на то, как, грохоча и взвизгивая, несется мимо нее громадная и живая железная змея. В одном месте Серафима наткнулась на солдатские теплушки и долго наблюдала, как суетятся вокруг них новобранцы, молодые и старые, веселые и грустные. Она хотела подойти, посмотреть, нет ли среди них Осипа, но паровоз свистнул, попятился вначале назад, потом сильно дернул вперед, пробуксовал на месте и потихоньку тронулся. Солдатики на ходу уже прыгали в теплушки, кто-то крепко матюкнулся, кто-то засмеялся и поезд укатил.
Серафима устала, хотела есть. Охранники товарняков косо посматривали на нее и что-то говорили между собой, а один из них вдруг направился к ней. Тогда она повернулась и пошла на вокзал.
Как родная меня мать провожала…
Пел какой-то подвыпивший мужичок, ломая картуз и голос, и все с удивлением смотрели на него, а потом подошел милиционер и увел его. Серафима пожалела мужичка, потому что был он плюгавенький, ротастый, пел жалобно и неумело.
До ночи она просидела в зале ожидания, изредка засыпая и вздрагивая от гудков паровозов. Когда стемнело, опять пошла на перрон, и здесь, на первом пути, прямо напротив вокзала, стояли несколько вагонов с большими красными крестами.