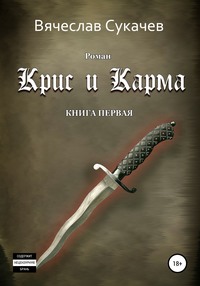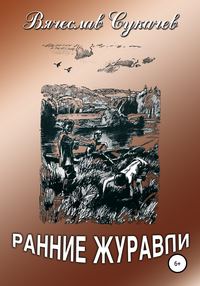Свидание у реки
– Ты зачем к нам приехала?
Любка растерялась, но ответ нашла быстро, словно готовилась к этому странному вопросу:
– Митю захотелось у тебя отбить, вот и приехала.
– Ишь ты, – усмехнулась Галка и долго смотрела на нее, что-то решая про себя, а потом отвернулась и равнодушно сказала: – Да ведь не любишь ты его, Митю-то…
И Любка не выдержала, потому что коснулись того, о чем она и себе запрещала думать, но о чем думала, однако же, постоянно. Самого больного в ней коснулись, и эта боль прорвалась при Галке с такой силой и горечью, что уже Галка, в свою очередь, растерялась. А Любка плакала, по-детски захлебываясь слезами, и пусто и потерянно смотрела в окно на разбушевавшуюся непогодь… Ничего не сказала Галка, молча вышла из вагончика, а Любка, уронив руки на стол, долго еще всхлипывала, чувствуя в себе пугающую пустоту. Словно бы вынули из нее все, чем она жила и болела, и только тревожный холодок остался под сердцем.
Не было в ее сердце Митьки, как ни билась она, как ни уверяла себя, для Митьки в нем места не осталось. И что теперь делать – она не знала. Как вообще не знала себя и всякий раз пугалась того нового, что вдруг открывалось в ней самой. Думала Любка, что на работе ей легче будет, забудется все со временем, но и тут ошибалась, и тут сама себя обманывала. И сколько еще этого обмана впереди – она тоже не знала.
Гудело пламя в печурке, за окном ветер ярился, и тонко позвякивало стекло, сдерживая своей хрупкой стойкостью разбушевавшуюся стихию. Заурчал на площадке лесовоз, и Любка пошла замерять вывезенную из леса древесину. Только вышла из вагончика, рвануло ее ветром, чуть с ног не сбило, и понесло так, что едва ногами успевала перебирать. Так, вместе с ветром, Любка сильно ударилась в какого-то человека, внезапно появившегося перед нею, и оба не удержались на ногах, повалились в снег. И что-то детское, давно забытое, проснулось в Любке, и засмеялась она, уже забыв недавние слезы, и Петруха засмеялся, поднимая ее из снега, пересиливая ветер, прокричал над ухом:
– Ну, Любава, как с тобой Митька-то справляется? Было зашибла начисто.
– Тебя зашибешь, – и Любка ему прокричала, – если ты круглый как мячик.
А ночью, когда Любка одиноко лежала в постели, к ней приходили воспоминания.
…Они вышли на небольшой взгорок, и перед ними открылось огромное снежное поле, на дальнем конце которого вились дымки над трубами деревеньки. Деревенька была маленькая, дворов на тридцать, но как-то так уютно и красиво она стояла, потонув в сугробах, под самым боком темной, угрюмой тайги. И эти дымки из труб, и лай собак, хорошо слышный здесь, за три километра от деревеньки, и красивый диск заходящего солнца над молчаливыми сопками – все было как в сказке. Любка притихла от восторга, от неожиданного сознания, что когда-то она уже видела все это, но только забыла теперь когда: и хотелось вспомнить, мучительно хотелось вспомнить – откуда это, из какого ее прошлого?
– Люба, едем! – Вячеслав Иванович взмахнул палками и легко понесся по снежному полю со взгорка, навстречу этой деревеньке. Любка тихо засмеялась, чувствуя, как совершенно новый восторг переполняет ее и суматошно рвется сердце в предчувствии какой-то большой радости, сильно оттолкнулась палками и по лыжне, проложенной Вячеславом Ивановичем, понеслась вниз. В самый последний момент она хотела обогнуть Вячеслава Ивановича, но не сумела, и они оба покатились в снег, и снег был мягкий и неожиданно теплый.
Вячеслав Иванович встал на колени, его лыжная шапочка валялась рядом, а темные, слегка вьющиеся волосы растрепались, и без привычного пробора он сразу стал похож на мальчишку. И этот мальчишка восторженно смотрел на нее и улыбался. И она уже не могла, не умела, чтобы не смотреть на этого человека, не видеть его смеющихся глаз и самой не смеяться в ответ.
И вновь они словно бы плыли над громадным снежным полем, что-то весело крича друг другу, умирая и воскресая в этих криках, в вянущих лучах заходящего солнца, одни во всем мире. И деревенька, эта чудная сказка, становилась все ближе, и они торопились к ней, как торопятся домой, когда торопятся влюбленные люди. И Любка уже сама с изумлением смотрела на Вячеслава Ивановича, сознавала в себе это изумление и была еще больше счастлива от него…
А потом они сидели в просторной деревенской избе, пили чай с липовым медом и слушали седобородого, с умными глазами старика.
– Мой отец в нашенские места вторым сплавом прибыл, – рассказывал старик, – а это когда было? Это, дай бог памяти, до царя Панька, когда земля была тонка. Вот он и прошел сплавом вначале по Шилке, а потом уже и по батюшке Амуру. Родом-то мы из забайкальских казаков будем…
Говорил и говорил словоохотливый старик, а Любка мало слушала его, счастливая тем, что хоть одна живая душа – свидетель ее любви. И каждую минуту хотелось ей прервать старика и рассказать ему свою повесть, у которой все было началом и все было концом.
– Давно ли женаты? – прервал вдруг старик себя, наверняка заметив, как вспыхнула Любка и низко опустил голову Вячеслав Иванович. – Нет, должно быть, недавно, – сам же себе и ответил. – Ну и в добрый час. А я вам сейчас постельку спроворю, вот вы у меня славненько и переночуете.
Старик был большой, с круглыми коричневыми ладонями и белой головой. Когда он разговаривал, казалось, что в комнате катают в пустой бочке булыжники, а взял в руки простыни, и они в его руках показались не более столовых салфеток.
– Сношка старается, – объяснил старик, – я-то дома редкий гость, все больше по тайге привычный шастать. А вернусь – порядок в доме люблю. Сын-то отделился, еще третьего года съехал…
И опять Любка переставала слышать старика, смотрела на Вячеслава Ивановича и счастливо улыбалась. И старик, все подмечая, все слишком хорошо зная по себе, добродушно усмехался в седую бороду.
– А вы? – запоздало вспомнили они про старика, наматывающего длинную портянку на крупную ногу.
– И мы не слоны, – ответил старик, – в тайге не потеряемся. Нам абы печь да на что лечь… Ну, всего хорошего вам.
А они еще долго сидели за столом, чувствуя уют и покой в хорошо натопленном и ухоженном доме. И не было слов, и необходимости в них – тоже. И даже неловкости оттого, что назвал их старик мужем и женой, что постелил им на двоих, они не испытывали. Только ощущение покоя, словно бы вырвались они из жестокой бури и теперь наслаждались тем, что буря позади.
– Пора и на покой, Люба, – наконец, словно бы очнувшись, сказал Вячеслав Иванович и, помедлив немного, первым пошел в горницу. Любка слышала, как тихо поскрипывали под его шагами половицы, и ей почему-то стало грустно.
Любка долго не могла заснуть. Не пал и Вячеслав Иванович. Он несколько раз закуривал, для чего, захватив спички и папиросы, выходил на кухню.
– Я был плохим студентом, – неожиданно заговорил Вячеслав Иванович, – меня больше увлекала древнерусская литература, а я слушал лекции по использованию лесосечного фонда. И когда меня уже собирались отчислить, я познакомился с Марией Иосифовной. Меня не отчислили. Я стал вначале посредственным студентом, а потом и хорошим, стабильным, как говорили в деканате. На четвертом курсе мы поженились… А вот страсть к древнерусской литературе у меня все-таки осталась. Я многое помню наизусть. Хочешь, почитаю?
– Хочу, – прошептала Любка, стараясь получше разглядеть его в призрачном свете, который шел через окно от снега и луны.
– «По благословлению отца моего старца Епифания… – медленно и торжественно начал читать Вячеслав Иванович, и Любка тихо вздохнула, так неожиданно и странно прозвучали для нее эти дивные слова, – писано моей рукою грешною протопопа Аввакума…»
– Ой, что это? – приподнялась на локте Любка, с испуганным восторгом заглядывая в светлое от луны и грустное от мыслей лицо Вячеслава Ивановича.
– Сочинение протопопа Аввакума, – тихо ответил Вячеслав Иванович, – был на Руси такой человек, Люба, удивительный… Погиб в ссылке. Обычная судьба просвещенцев того времени.
Страшно отчего-то было Любке. Какой-то неведомой силой повеяло на нее от услышанного. Ничего она толком не поняла, но вот эта ночь и какие-то странные, словно бы чужие и близкие вместе, слова отпечатались в ее памяти навсегда.
Утром они уходили все по тому же огромному полю, все от той же деревеньки. И седой огромный старик долго смотрел им вслед из-под руки, добродушно улыбаясь в бороду. Но уже не было в Любке вчерашнего предчувствия счастья, а лишь ожидание скорой разлуки. Один раз Любка оглянулась и увидела старика, который все еще смотрел им вслед. И в какое-то мгновение она почти вспомнила эту деревеньку и этого старика, так близко показалось ей далекое прошлое. Но мгновение минуло, прошлое спряталось за века, и Любка пошла дальше.
13
– Любава, слышь, директор-то пообещал наших на Новый год из тайги вывезти, – сказала вошедшая в избу Пелагея Ильинична, – славно-то как было бы, а? Он, Егорушка-то, Просягин, и прошлым годом хотел этак устроить, да занепогодило, завертело метели, вот все планы его и расстроились.
Любава опустила на колени спицы, которыми училась вязать теплые вещи, робко посмотрела на Пелагею Ильиничну, и тихо сказала: «Вот хорошо бы». Но и сама не поверила своим словам, смутилась и покраснела. И Пелагея Ильинична все это заметила и подивилась тому, с каким упорством не принимала Любава ее последыша. И невольное уважение к Любаве, к ее стойкости пробудилось в Пелагее Ильиничне, хотя тому и мешала обида за сына. «Полюби она Митьку, – думала Пелагея Ильинична, – женка-то вечная будет. Такую кудрями с толка не собьешь, не дастся, вот тебе и молодежь нонешняя. Они, вертихвостки, как были, так и пооставались, а самостоятельные-то как следили за собой, так и ноне не больно разгуливаются».
– Получается? – подошла Пелагея Ильинична к Любаве и взяла в руки начатый носок. Близко поднесла его к глазам, заметила: – Ты петли-то потуже стягивай, а то носок у тебя больше на рядно смахивает.
Потом села Пелагея Ильинична к столу напротив Любавы и горестно вздохнула, привычно подперев щеку рукой.
– Любава, – вдруг тихо и задумчиво сказала Пелагея Ильинична, – ты бы хоть мне поведала, почто Митьку не любишь? Ведь срам-то на все село, все же видят, каковская ты ходишь, ровно в воду опущенная. Ноне уже Галка Метелкина, спасибо ей, за тебя в магазине встряла. Да ведь на чужой платок не накинешь платок… А только неладно так-то получается, ой, Любава, неладно. Сенотрусовы-то у нас в Макаровке завсегда в почете ходили, а теперь их вроде бы как на смех выставили… Не любишь, так зачем же ты с Митькой согласилась ехать? Он-то конечно, мог и позариться, вишь ты какая ладная да складная, ну а ты-то куда смотрела?
Молчала Любава. Давно ждала она этого разговора, а вот что ответить Пелагее Ильиничне – не знала.
– Вот уж не задалась жизнечка-то моя, – горько пожаловалась Пелагея Ильинична, так и не дождавшись от Любавы ответа, – трое на войне полегли, ну, думаю, остатный-то, Митька мой, порадует на старости. Невестушку приведет, она внучат мне нарожает, вот и буду я в уходе да в заботе, как и все добрые люди. А оно вишь, что получается. Или уж я такая грешная? – покачала головой Пелагея Ильинична. – Может, не так жила, не так пенсию зарабатывала. Так я ведь и ноне работаю, дома не сижу, да у нас и редко кто на пенсии сиднем сидит. Не на производстве, так дома вламывают будь здоров… Так почему у меня-то одной несчастье такое, а, Любава? Не мил он тебе, так разошлись бы лучше полюбовно, не срамились. Ноне ведь и законы позволяют человека по себе сыскать…
– Я полюблю, – вдруг прошептала Любава, мельком глянув на Пелагею Ильиничну.
– Ой ли, дева? – горько усмехнулась Пелагея Ильинична. – Любовь-то рази обещают? Что-то я не слыхивала про такое… Я вот только одного в толк не возьму, чем же он не люб-то тебе? Мужик вроде бы без изъянов, здоровьем бог не обидел, да и не урод какой-нибудь, не прохиндей…
– Он хороший, – выпрямилась Любава, – очень хороший, Пелагея Ильинична. И вы мне поверьте, жить мы с ним хорошо будем… Честное слово, Пелагея Ильинична, я вас не обманываю. Вы только еще немного потерпите, все будет хорошо.
И с этой минуты как-то проще и вольнее зажила Любава в доме Пелагеи Ильиничны. Чаще смеялась, а однажды и Пелагею Ильиничну насмешила: взялась коровенку подоить, а та возьми и заступи задней ногой в ведро. Прибежала напуганная Любава, подол в молоке, лицо в молоке, глянула на себя в зеркало и смехом залилась. И Пелагея Ильинична рассмеялась, да того звонкий да голосистый смех был у невестушки.
Глядя на Любаву, и Пелагея Ильинична настроением поднялась, зарадовалась и с нетерпением ждала-поджидала Митьку из тайги.
14
Во второй половине ноября, когда выпал первый настоящий снег, соболь скатился с хребтов и осел на кормовых местах вдоль Верхотинки. С этого момента началась для Митьки горячая пора. Год выдался кормовым, припасливым и соболь на приманку не шел, почти не делал тропок и сбежек. И приходилось Митьке чаще всего брать зверька на гон. Ранним утром выходил он на промысел, отыскивал свежий соболиный след и тропил его до гнезда. Затем обкладывал гнездовье – обычно дупло в деревьях – длинной сетью-обметом и выгонял зверька из убежища. Часто соболь добровольно в сеть не шел, и приходилось выкуривать его дымом. На все это уходило много времени и сил, и в зимовье Митька возвращался поздним вечером, основательно умаявшись за день.
В зимовье у Митьки порядок, какой не у каждой хозяйки в дому встретишь. Вываренные в настое хвои капканы аккуратно на торцевой стенке висят, над топчаном, удобно для руки, ружье пристроено и охотничий нож – тот самый, что в прошлый раз в Раздольном купил. На железной печурке в углу всегда чайник томится, рядом с печуркой дрова припасены. Транзисторный приемник и фонарик на подоконнике место нашли. И так каждая вещь и вещица в зимовье с умом приспособлены. Кликни Митьку – в пять минут соберется и ничего не забудет И это в нем уже в крови, хотя и учить некому было, до всего сам доходил, своим умом.
Вернувшись с промысла, Митька первым делом растапливал печурку и подолгу пил крепкий горячий чай. Потом уже, напившись и согревшись, принимался кашеварить. Пока в котелке булькало, он обдирал зверьков, ловко и умело орудуя острым ножом. И эти часы были особенно дороги Митьке. Он вспоминал со всеми подробностями, какого зверька и как удалось добыть. Бывали случаи забавные, о них он долго помнил и удивлялся. Так случилось недавно и с норкой, которая попала в капкан, поставленный Митькой в пустоледье на разбое (главное русло, разбиваемое на протоки и рукава с заломами). Норка угодила в капкан задней лапкой на прыжке, и потому прищелкнуло ее под самое брюшко. Когда Митька подошел к пустоледью, он увидел норку с небольшим таймешком в зубах. Митька легко освободил норку от капкана, а вот с рыбкой расставаться она не хотела ни в какую. Такого дива ему еще не приходилось встречать, и он оставил ее жить. Но вечером норка сбежала из зимовья, и как не искал Митька следы побега, так ничего и не нашел…
Когда Митька заканчивал все свои обычные дела, он садился к столу, придвигал свечку и начинал думать. Так он сидел подолгу, лишь изредка обращая внимание на свое отражение в стекле. Потом доставал ученическую тетрадку в косую линейку, простой карандаш и принимался писать письмо Любаве. Проходил час-другой, а у Митьки все не кончались слова для нее, и мысли плотно теснились в его голове. Уставала рука. Все-таки эта работа была непривычной для него. Тогда он поднимался и выходил на улицу.
Над землей густо стояли звезды. Луна медленно и величаво выплывала из-за деревьев, высвечивая горячо блестевшие Митькины глаза. Шумела вода на перекате, где не брался ледок и в самые лютые морозы. А так тишина в тайге, собственное дыхание слышно, а уж сучок какой треснет – кажется, грохота на весь мир наделает.
Остудившись, Митька возвращался к столу и писал дальше.:
«Соболь, Любава, штука знатная. Только знать надо, как с ним обращаться надо. Иной дурак в одну зиму возьмет сорок штук с участка, а ему и невдомек, что на следующий год останется он вообще без промысла. А надо так, чтобы и белки немного взять, и норки, и лисой не побрезговать. Тогда у тебя завсегда на участке будет фартовый промысел.
Я вот тебе еще прошлым письмом обещался про порожек Буркан рассказать, да все не знаю, с чего начать… Соскучился я по тебе, Любава. То ведь промысел для меня как праздник, а этим годом – хуже каторги. Я уже раза два настраивался к тебе бежать, да перед ребятами совестно будет. Одна надежда на Новый год. А если заметет вдруг, как прошлым годом было, то уж тогда пойду. Никакая сила меня не удержит. Я вот как представлю, что ты вечером сидишь одна и думаешь в одиночестве, уж так хорошо и подробно все вижу…»
Сон долго не шел к Митьке. Он шумно ворочался на жестком топчане, вскакивал, зажигал свечку и принимался перечитывать то, что написал за вечер. Читал долго, хмурясь и шевеля губами.
Однажды выскочил Митька в ночь и попер по тайге, не разбирая места. Низкие тучи брели куда-то по небу, изредка обнажая далекие звездные светлячки. Ветер обрывал куржак с деревьев и сыпал Митьке за воротник, но он ничего этого не замечал и опомнился лишь километрах в двух от зимовья. Стоял Митька посреди тайги без шапки в одной рубашке и валенках на босу ногу. Стоял, не понимая, как он здесь очутился и зачем. И странным было ощущение его, словно бы Любава где-то здесь, за деревьями, стоит и манит его за собой, зовет куда-то.
Митька набрал полную пригоршню снега, потер лицо и шею и вроде бы успокоился, но до самого зимовья его не покидало тревожное чувство, что Любава где-то здесь, рядышком, смотрит на него.
В этот вечер достал Митька из запасника бутылку спирта и половину стакана залпом выпил. Когда ему стало жарко, он лег ничком на топчан и вдруг заплакал.. И не стыдные слезы какие-то были, а вроде бы даже в радость ему. Катились они, горячие, по горячей Митькиной щеке, падали на подушку, и падало Митькино сердце в неизведанные глубины, билось и рвалось там в болючей тоске. И вся его жизнь, такая простая, известная всем и каждому, вставала перед ним. В сорок седьмом году пошел в школу, отмучил семь классов и было подался в школу механизаторов, но душа к железу не лежала. Бросил. Без души Митька не умел. Два года в леспромхозе сучкорубом отмантулил, матери из горя помог выбраться, а в шестнадцать лет встал на промысел, и все. Это было его кровное дело, и он впрягся в него прочно, надолго.
В семнадцать лет Митька в клуб пошел. Не в кино и не в библиотеку, а по-взрослому пошел гулять. Его приняли и признали. Но он и здесь особняком шел, не кидался куда попало, а тихо и упорно ждал своего часа. Так прошли годы, и в первые красавицы взошла Галка Метелкина. Парни бились вокруг нее, случалось, и на кулаках. Он ходил мимо. Тогда она первая подошла к нему. И уже думал Митька, что его час настал, что нашлась та, единственная, но думал равнодушно, без трепета, спокойно. Может быть, так вот спокойно жил бы он с Галкой, девкой видной и веселой, не случись завалиться ему в универмаг.
15
В день, когда облетал вертолет промысловые участки, в поселке с рассвета колготились женщины, то и дело выбегая на улицу послушать, не хлопочет ли вертолет над тайгою, неся от промысловиков долгожданные весточки. Пелагея Ильинична, по случаю воскресного дня затеявшая большой рыбный пирог, то и дело настороженно замирала, оттягивала платок с уха, прислушиваясь к звукам с улицы.
– Аль, трещит, Любава? – беспокойно спросила она.
Любава, взявшись шить юбку к Новому году, оторвалась от работы и успокоила Пелагею Ильиничну.
– Да нет, это Петруха дрова Колобковым повез.
– Как бы они там гостинец Митрию не растрясли.
– Я хорошо упаковала. Не растрясут…
В три часа дня маленький красный вертолет пронесся низко над домами и легонько торкнулся на специально расчищенную поляну возле поселкового клуба. Волнение, которым была переполнена Пелагея Ильинична, невольно передалось и Любаве. Бросив шитье, она подхватилась одеваться и уже на ходу, с порога, сказала Пелагее Ильиничне:
– Я сейчас, мигом обернусь.
Когда Любава прибежала к вертолету, многие женщины уже получили мужние посылки и теперь напористо расспрашивали вертолетчиков и Просягина о том, как выглядят их суженые, да не болеют ли, да не надобно ли им чего.
Любава взяла из рук директора промхоза маленький сверток, замешкалась, не зная, что ей делать дальше.
– Кланяется вам Дмитрий, – улыбнулся Просягин, – ну и само собой – целует накрепко.
– Как он там? – тихо спросила Любава.
– Скучает, – серьезно ответил Просягин, – домой рвется… Ну а с промыслом у него всегда хорошо.
Любава вспыхнула, поблагодарила Просягина и, провожаемая любопытными взглядами женщин, поспешила домой.
В свертке оказалась ловко выструганная из дерева матрешка и три письма. Одно – Пелагее Ильиничне. Два – Любаве.
Пелагея Ильинична, положив письмо на стол, долго разглядывала матрешку, потом тихо засмеялась и сказала:
– А ведь это он тебя, Любава, выстругал… Посмотри.
Любава взяла матрешку, вгляделась и неожиданно в самом деле увидела сходство с собой. Удивленно посмотрела на Пелагею Ильиничну, опять на матрешку, и вдруг по круглым щекам ее румянец пролился.
– Давай читать будем, – предложила Пелагея Ильинична и, захватив свое письмо, ушла к русской печке, где доспевал праздничный пирог.
Любава свои письма прочитала быстро. Опустив руки на колени, долго сидела, глядя в маленькое оконце на улицу. Потом начала перечитывать места, которые особенно удивили и взволновали ее.
«Лед-то уже установился, прочно встал, – писал Митька, – когда я в пустоледье угодил. В таких-то пустоледьях, Любава, завсегда выдры обитают. Вот я и наладился там капканчик насторожить. А того не заметил, что у пустоледья двойное дно. Вот и ухнул по самую маковку. А течение в том месте – страсть! Теперь уже не помню, как успел руками за кромку льда ухватиться. Течением-то волокет меня под лед, уже и ноги затянуло, а туловом я еще в пустоледье барахтаюсь. Первый раз в жизни, Любавушка, мысль пришла, что каюк мне в этом пустоледье. Что не выдра мне попалась, а сам я в историю попал. Руки-то у меня ослабли, красные от мороза, я их, руки красные, и сейчас вот как хорошо вижу перед собой. Ну, значит, ослабли и скользят по льду. Уже одними пальцами цепляюсь я за лед и чую; еще минута – понесет меня подо льдом и – хана. А в этот момент вдруг встало передо мной лицо твое, Любушка, и так оно живо встало, словно бы смотришь ты на меня и с укором головой качаешь. Мол, что же ты, Митя, так просто дался, или нет в тебе воли никакой. И, поверишь ли, Любонька, откуда только силы взялись. Обозлился я, вцепился пальцами в лед так, что из под ногтей кровь выдавилась, подбородком на лед навалился и по сантиметру вытащил себя из пустоледья. Лежу, от меня пар валит, одежда тут же ледяной коркой схватилась, а подняться – сил нет. Ну ничего, оклемался потихоньку.
Всякую ночь, Любава, вижу я тебя во сне. Проснусь, и жалко, что проснулся, что исчезла ты… Вот я целый день бегаю по тайге и ночи дожидаюсь, чтобы тебя опять повидать. Мила ты мне, Любавушка, ох как мила…»
Уронив руки на стол, Любава оторвалась от письма и с неожиданной ясностью представила, как барахтается он в воде и некому ему помочь, и негаданная нежность к Митьке, беспокойство охватили ее.
«В тайге много чего случается, – писал Митька во втором письме. – Тут вот не залег с осени медведь в берлогу и шастает теперь по моему участку. Пошел я как-то в обход путиков, капканы проверяю да настораживаю. Тихо в тайге. Лишь дятлы стучат по сухим листвянкам, да один раз белка цвыркнула на меня. Снег был свежий, тяжело идти, вот я и припозднился. Домой уже в шестом часу повернул, когда мглиться начало. Не прошел я и десяти метров по своей лыжне, ба – следы. В аккурат по моей лыжне шатун топал. И так до самого зимовья. Караулил, значит… И вот так он за мною уже неделю ходит. Ну словно тоже на работу в промхоз нанялся.
Мне тебе, Любава, многое сказать хочется, да слов у меня не хватает. Люблю я тебя. Вот как крепко люблю и скучаю по тебе до невозможности. А хорошо ли это – не ведаю. Мне бы только знать, что ты хотя бы иногда думаешь обо мне, а уж я…»
Скрипнула кровать в комнатушке Пелагеи Ильиничны. Любава вздрогнула, и вдруг вся не досказанная Митькой боль с такой силой навалилась на нее, что стиснула она руками виски и тихо закачалась над столом, ничего не видя перед собой…
16
День выдался ясный, сочный обилием света. Схваченное изморозью солнце, с трудом оторвалось от земли, но оторвалось, родимое, и пошло карабкаться к небесным кручам под восхищенным Митькиным взглядом. Ах, какой это был чудесный день, таких дней Митька еше не знавал в жизни. Он торопливо попил чай, быстренько собрал походный рюкзачок и, переполненный счастьем оттого, что бежит на вертолетную площадку, чуть ли не первый раз в жизни запел. Митька запел и опешил, перепугался своего голоса, до того он странно для слуха прозвучал, а потом засмеялся, встал на лыжи и побежал по тайге.