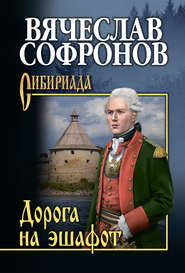По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обречённый странник
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да найду я тебе деньги, не переживай. Только что с тобой случилось, не пойму?
– У него спроси, – кивнул в сторону Карамышева Тимофей.
Когда радостный Иван Зубарев выскочил обратно из каретного сарая, весь сияющий, неся перед собой на руках серебряный слиток, как будто то был не иначе как философский камень, и влетел в дом, то он не мог слышать разговора, что произошел между Карамышевым и Тимофеем Левриным. Тимофей, сокрушенно качая головой, проговорил:
– Эх, Андрей Андреевич, благодаря тебе принял я грех на душу, на обман пошел. От моей и твоей неправды большая беда случиться может.
– Да будет тебе, – поморщился Карамышев, – главное, Иван успокоится, а остальное предоставь мне решать. И чтоб ни гу-гу! Молчок! Понял?
– Как не понять… Всякому грешнику путь вначале широк, а после тесен. Кого бес попутал, того Бог простит…
На другой день Зубарев рассчитал Леврина, и тот, словно побитая собака, уехал на Колыванский завод, так и не объяснив ничего Ивану.
4
Иван согласился с предложением тестя обратиться к митрополиту Сильверсту и поведать ему о своих планах поиска в башкирских землях серебряных руд. К тому же ему просто не терпелось хоть кому-то показать выплавленное на собственном дворе серебро. Завернув серебряный слиток в чистую тряпицу, Зубарев с Карамышевым приоделись и отправились на митрополичий двор в выездных саночках, запряженных бойким Орликом. Правда, жеребчик, после смерти Зубарева-старшего оставшись без хозяйского глаза, сильно сдал, из-под кожи выпирали ребра, и весь он стал какой-то мосластый, свалялась грива, длинный сизый хвост уже не вился на ветру во время бега, но осталась былая стать и красивый ход.
Потому он легко взомчал санки по взвозу и без остановки пошел дальше, выпластывая из-под себя красивые тонкие ноги, посверкивая полумесяцами подков.
Однако ворота при въезде на митрополичий двор оказались закрыты, и на стук вышел заспанный караульный, неохотно сообщил, что владыка уехал в Абалак, и если очень нужно, могут найти его там.
– А когда вернуться обещал? – поинтересовался Иван.
– Нам его преосвященство не докладываются, – ехидно ответил караульный и ушел обратно в теплую будку.
– Что делать станем? – спросил Иван тестя. – Ждать будем?
– Кто его знает, сколь ждать придется… Может, махнем в Абалак? Довезет? – кивнул на Орлика, тяжело поводящего боками.
– Как не довезет, доедем с ветерком. Он у нас конь хоть куда. – Иван похлопал Орлика по крупу, отер рукавицей пот с шеи. – Прокатимся? – Конь встряхнул головой, зазвенел удилами, покосился на молодого хозяина.
Иван вскочил обратно в саночки, развернул жеребчика и звонко щелкнул кожаными, с медными бляшками, вожжами, погнал его в сторону городских ворот, за которыми начинался Иркутский тракт и шла дорога на Абалак. Первую половину пути Орлик шел хорошо, рысью, они даже нагнали и оставили позади несколько крестьянских возов, с запряженными в розвальни мохнатыми заиндевевшими лошадками, укрытыми хозяевами для пущего бережения дерюгами, но уже на подъеме после Иоанновского монастыря он сбавил ход, а потом и совсем перешел на шаг и, наконец, остановился, тяжело поводя боками.
– Но! Но! – закричал Иван и хлестнул жеребчика вожжами, но тот лишь вздрогнул, запрядал ушами и тихо заржал.
– Не бей, – остановил Зубарева тесть, – не поможет. Пристал конек. Давно разминал?
– Да после отца в первый раз и запряг, – смущенно отозвался Иван.
– А кормишь чем?
– Сеном… Чем же еще? На овес денег нет, сами знаете.
– Чего же ты от него хочешь? Ладно, что хоть столько проехали. Поворачивай обратно, а то до ночи не доедем.
– Ничего, сейчас отдохнет малость, и дальше тронемся. Доберемся…
Карамышев понял, спорить бесполезно, замолчал, уткнув худой длинный нос в воротник, насупившись, наблюдал, что станет делать дальше Иван. А тот снял рукавицы, быстро-быстро отер ими спину и бока Орлика и, скинув с себя тулупчик, набросил его на влажную конскую спину.
– Совсем загонял тебя хозяин, – нежно зашептал он, наклонясь к конской морде. – Ты уж прости меня, дурака, хорошо? – Жеребец, не моргая, смотрел на него круглым выпуклым глазом, шумно вдыхая ноздрями морозный стылый воздух.
Иван около четверти часа ходил вокруг коня, отирал пот, о чем-то тихо говорил с ним, пока сам не замерз, не начал дрожать. Лишь тогда снял с него тулупчик, надел на себя и забрался в санки, щелкнул вожжами, и жеребчик пошел сперва тихим шагом, а потом, набрав ход, перешел на обычную рысь и без устали принялся отмеривать версту за верстой.
– Следить надобно за конем, – назидательно проговорил Карамышев, но Иван не ответил, и дальше ехали молча, думая каждый о своем.
Дорога шла полями, огибая, а порой пересекая многочисленные лога, которые, словно многопалая рука огромного существа, впившись в землю, тянулись своими извивами к иртышскому берегу. Под снегом скрывались на дне оврагов замерзшие в эту пору ручьи, чистого вкуса ключи, а то и небольшие вязкие болотца, служившие летом прибежищем миллиардов серых тонконогих комаров, живущих лишь самый теплый сибирский сезон, чтоб набраться человеческой или звериной крови, оплодотвориться, отложить в вязкую землю яйца и уйти, умереть, больше уже никогда не появляться на свет. Сейчас стояла самая благодатная пора, когда не было гнуса, комара, паутов и иной жужжащей и зудящей, поющей на все голоса мелюзги, почти не различимой человеческим глазом. Но в весенние долгие дни и короткие, словно легкий обморок, ночи кружащий в лесных перелесках гнус становится недремлющим хранителем, стражем, оберегающим от недоброго чужака сумрачные чащи в пору рождения и мужания звериного, птичьего и иного лесного потомства. Злобно набрасываются они на всякого, кто позволит себе в тот священный час войти под полог леса, посягнуть на жизнь иного беззащитного существа. Никто из опытных старожителей тех мест без особой на то нужды не решится осквернить в раннюю весеннюю пору цветения заповедные и укромные таежные уголки, помешать появлению на свет нового рода. И передается тот обычай от отца к сыну, продолжая жить бок о бок с иным, но столь близким человеку миром тайги. Иначе… быть здесь пустыне безжизненной и мертвой.
Зимой, когда снег и лед делали одинаково похожими холмы и леса, скрывали норы, дупла, муравейники, берлоги и звериные лежбища, тем более не было возможности для алчного постороннего человека вторгнуться в лесной мир и навредить ему, не рискуя при том собственной жизнью. Не всякий способен выбраться обратно из стылого таежного урмана, углубившись в него чуть в сторону от проезжей дороги. Бог столь мудро обустроил мир, разведя, обособив мир человека от мира зверей, что не перестаешь удивляться мудрости и любви Создателя ко всему сущему.
К Абалакскому монастырю подъехали совсем уже в потемках. Окончательно уставший, выбившийся из сил Орлик медленно переставлял ноги и, дойдя до ворот обители, ткнулся лбом в ворота и так замер. Долго стучали, дожидаясь, пока заспанный монах вышел к ним и на вопрос о владыке согласно кивнул головой, мол, здесь, да только отдыхает.
– По какому делу пожаловали? Может, весть какая из Петербурга? – выпытывал он, пытаясь узнать о цели их приезда.
– Владыке о том самолично доложим, – постукивая зубами от холода, ответил Карамышев, давая понять, что с простым служкой говорить не станет.
– Может, разбудить владыку? – засуетился монах. – Он так и повелел, коль из Петербургу кто прискачет… Давно, видать, ждет.
– Да не из столицы мы, свои, тобольские люди, – успокоил его Карамышев, – только ты это, христовенький, определи-ка нас на ночлег да вели щей горячих или чего иного подать. Озябли вконец, сил нет никаких.
Их проводили в глубину монастырского двора, где стояла небольшая, об одно окно избушка, которая, судя по всему, служила для приема случайных постояльцев, а потому внутри было не топлено, и служитель едва сумел открыть примерзшую к косяку дверь. Пока Иван и Карамышев озирались внутри сумрачного ночлега, монах успел притащить охапку березовых поленьев и сноровисто растопил небольшую, но оказавшуюся весьма жаркой печурку, а вскоре принес и ужин. Иван попросил его позаботиться об Орлике, поставить в монастырскую конюшню, дать корм, напоить.
– Непременно все исполню, – легко согласился тот, – владыка велел всех гостей монастырских привечать как должно, по-христиански. – Ночуйте с Богом и ни о чем не беспокойтесь.
Разбудил их негромкий, но явственно слышный колокольный перезвон, и вскоре зашел вчерашний монах, сообщив им, что владыка примет их сразу после службы, а сейчас приглашает пройти в храм на заутреню.
Ивана поразило внутреннее убранство храма своей сдержанностью и обилием старых, потемневших от времени икон. Над царскими вратами иконостаса помещалась главная икона монастыря – Чудотворная икона Божией Матери, на которой была изображена сама Богородица с Христом во чреве и предстоящими Николаем Чудотворцем и Марией Египетской. Иван слышал, что именно в таком виде Богородица являлась несколько раз одной абалакской жительнице, которая поведала обо всем духовным властям, а через какое-то время местный иконописец написал образ Божией Матери. Икона эта известна в Тобольске и по всей Сибири тем, что приносит излечение болящим и немощным. Чудотворную каждое лето приносят в Тобольск с крестным ходом и оставляют на какой-то срок в городе, перенося из храма в храм. В это время в Тобольск съезжается множество паломников со всех концов Сибири, а иные едут на поклонение к Чудотворной даже из-за Урала, прослышав о многочисленных чудесах исцеления болящих.
Иван помнил, как мать с отцом брали его вместе с сестрами, еще детьми, на встречу с Чудотворной, одевались в лучшие одежды, и в доме сразу начинало пахнуть праздником, пеклись блины и куличи, все улыбались, радовались, отец почти на неделю закрывал лавку, ездил по родне и знакомым с поздравлениями. Потом в какой-то момент все изменилось: повыходили замуж сестры, Василий Павлович год от года мрачнел, это сейчас Иван понимал, уже в то время дела у отца шли плохо. То по молодости думал, посердится родитель, и все пройдет, успокоится. Нет, не успокоилось, не утихло, а ушел из дома праздник, радости сменились заботами, каждодневными хлопотами, обыденной суетой. Может потому и хотелось Ивану вырваться из этого заскорузлого торгового скучного мира, что желалось видеть, пусть не каждый день, праздник, радость, веселье настоящее, а не подменное, приходящее во время пьяных гулянок и застолий. Видел по братьям своим двоюродным, по Корнильевым, как все глубже и глубже увязали те в делах, в скукотище от каждодневного щелканья костяшек на счетах, позволяющих увидеть, что убыло и сколько прибыло. И не замечают они при том, что их самих за теми кулями, мешками, сундуками, корзинами и не видно… Когда Иван вспоминал о своих двоюродных братьях-купцах, коих почитали и побаивались все в городе, то первое, что вставало у него перед глазами, – это низкий почерневший, давно не беленный от скупости и нехватки времени потолок лавки, где те проводили в подсчетах все дни и лучшие свои годы. Только лишь в престольные праздники, влекомые на службу в храм женами, родней, знакомыми, с неохотой прекращали торговлю, вешали пудовые замки на лавки и амбары, словно улитка с раковиной, расставаясь с милой обителью на незначительный срок.
Вся жизнь, весь уклад в корнильевских семьях были подчинены одному-единственному правилу: день прошел зря, ежели хоть пятачок, полушка не звякнули в кошеле, прибавившись к прочим. Умом Иван понимал своих родичей и, упаси Бог, никогда не решился бы высказать им свое отношение вслух, но сердцем, душой ему был противен тот мир непрестанного и каждодневного корпения, просиживания над приходно-расходными книгами, старания разбогатеть даже за счет беды близкого человека, лишь бы соблюсти собственную выгоду.
Абалакская чудотворная икона Божией Матери, перед которой он сейчас стоял, звала, манила в иной мир – чистый и бесхитростный. Ее руки, воздетые к небу, как бы говорили о существовании иного бытия, где нет места обману, извечной заботе о пропитании. Чудотворная призывала к радости, празднику души, отказу от бренности. И низкий сводчатый потолок храма, освещаемый неровным светом десятка свечей, говорил о тяжести земных забот, давящих грузом, не пускающих туда вверх, к небесам. И все святые, писанные на больших, почти в рост человека, досках, подчеркивали, напоминали своей позой, поворотом головы, взглядом, что любой человек на грешной земле находится на ней словно на раскаленной сковороде и пройдет миг, как он воспарит, поднимется к небесам, к чистому небу, мало что успев оставить после себя, разве что короткую память, добрую или злую, в зависимости от понимания собственного предназначения.
– Спишь, что ли? – тронул его за рукав Карамышев.
– А что? – вздрогнул Иван, посмотрел вокруг. Служба заканчивалась, монахи и прихожане уже подходили к кресту, который держал собственноручно владыка Сильвестр, ласково улыбаясь каждому. Иван с Карамышевым оказались последними при крестоцеловании и, приложившись к распятию, пошли к выходу, где их уже поджидал все тот же монах, тихо сообщивший, чтоб шли следом за ним.
Приемная комната митрополита оказалась в длину не более пяти шагов, с небольшими оконцами и низким потолком. Вся противоположная от входа стена ее была увешана иконами, а длинный стол на резных точеных ножках завален книгами и бумагами. Ивану не приходилось прежде встречаться с владыкой, но он слышал от многих, что тот слыл большим книжником, собирал старые грамоты и рукописи, и даже сам написал несколько книг, а потому он немного робел и понятия не имел, о чем станет вести разговор с митрополитом. Оставалось надеяться на тестя, который, наоборот, держался подчеркнуто независимо и все вытягивал вперед острый, успевший покрыться за ночь щетиной, подбородок.
Владыка неожиданно для них вошел через боковую небольшую дверцу, которую Иван не заметил, низко нагнув голову, а когда распрямился, пристально глянул на них, то показался вблизи еще выше ростом и необычайно худым, с бледным лицом, глубоко посаженными черными проницательными глазами. Иван и Андрей Андреевич шагнули под благословление и поспешили сесть на обыкновенную деревенского вида лавку, стоящую подле стены. Сам владыка опустился в простое деревянное кресло и, облокотясь на стол, изучающе посмотрел на них, чуть кашлянув, спросил глухим надтреснутым голосом:
– Что привело вас ко мне? Слушаю.
– Владыке, верно, известно, как пострадал я от рук неверных…
– Слышал, слышал, – коротко кивнул тот, пристально вглядываясь при этом в Ивана.
– Теперь принужден жительствовать у зятя моего, Ивана Зубарева, – как-то по-книжному продолжил Карамышев, – в деревеньке, неподалеку от Тюмени, именуемой Помигаловой… – Владыка молчал, ожидая, когда тот перейдет к сути дела. – А тут свояк мой Богу душу отдал. – Андрей Андреевич никак не мог нащупать нить разговора. Иван даже усмехнулся про себя, радуясь растерянности всегда излишне самоуверенного тестя. – Да после себя долгов наоставлял, – продолжал тот, – а потому, ваше высокопреосвященство, имеем дерзость припасть к стопам вашим со смиренной просьбой, благословите начатое нами дело, – закончил он и замолчал, так ничего толком и не изложив.
– У него спроси, – кивнул в сторону Карамышева Тимофей.
Когда радостный Иван Зубарев выскочил обратно из каретного сарая, весь сияющий, неся перед собой на руках серебряный слиток, как будто то был не иначе как философский камень, и влетел в дом, то он не мог слышать разговора, что произошел между Карамышевым и Тимофеем Левриным. Тимофей, сокрушенно качая головой, проговорил:
– Эх, Андрей Андреевич, благодаря тебе принял я грех на душу, на обман пошел. От моей и твоей неправды большая беда случиться может.
– Да будет тебе, – поморщился Карамышев, – главное, Иван успокоится, а остальное предоставь мне решать. И чтоб ни гу-гу! Молчок! Понял?
– Как не понять… Всякому грешнику путь вначале широк, а после тесен. Кого бес попутал, того Бог простит…
На другой день Зубарев рассчитал Леврина, и тот, словно побитая собака, уехал на Колыванский завод, так и не объяснив ничего Ивану.
4
Иван согласился с предложением тестя обратиться к митрополиту Сильверсту и поведать ему о своих планах поиска в башкирских землях серебряных руд. К тому же ему просто не терпелось хоть кому-то показать выплавленное на собственном дворе серебро. Завернув серебряный слиток в чистую тряпицу, Зубарев с Карамышевым приоделись и отправились на митрополичий двор в выездных саночках, запряженных бойким Орликом. Правда, жеребчик, после смерти Зубарева-старшего оставшись без хозяйского глаза, сильно сдал, из-под кожи выпирали ребра, и весь он стал какой-то мосластый, свалялась грива, длинный сизый хвост уже не вился на ветру во время бега, но осталась былая стать и красивый ход.
Потому он легко взомчал санки по взвозу и без остановки пошел дальше, выпластывая из-под себя красивые тонкие ноги, посверкивая полумесяцами подков.
Однако ворота при въезде на митрополичий двор оказались закрыты, и на стук вышел заспанный караульный, неохотно сообщил, что владыка уехал в Абалак, и если очень нужно, могут найти его там.
– А когда вернуться обещал? – поинтересовался Иван.
– Нам его преосвященство не докладываются, – ехидно ответил караульный и ушел обратно в теплую будку.
– Что делать станем? – спросил Иван тестя. – Ждать будем?
– Кто его знает, сколь ждать придется… Может, махнем в Абалак? Довезет? – кивнул на Орлика, тяжело поводящего боками.
– Как не довезет, доедем с ветерком. Он у нас конь хоть куда. – Иван похлопал Орлика по крупу, отер рукавицей пот с шеи. – Прокатимся? – Конь встряхнул головой, зазвенел удилами, покосился на молодого хозяина.
Иван вскочил обратно в саночки, развернул жеребчика и звонко щелкнул кожаными, с медными бляшками, вожжами, погнал его в сторону городских ворот, за которыми начинался Иркутский тракт и шла дорога на Абалак. Первую половину пути Орлик шел хорошо, рысью, они даже нагнали и оставили позади несколько крестьянских возов, с запряженными в розвальни мохнатыми заиндевевшими лошадками, укрытыми хозяевами для пущего бережения дерюгами, но уже на подъеме после Иоанновского монастыря он сбавил ход, а потом и совсем перешел на шаг и, наконец, остановился, тяжело поводя боками.
– Но! Но! – закричал Иван и хлестнул жеребчика вожжами, но тот лишь вздрогнул, запрядал ушами и тихо заржал.
– Не бей, – остановил Зубарева тесть, – не поможет. Пристал конек. Давно разминал?
– Да после отца в первый раз и запряг, – смущенно отозвался Иван.
– А кормишь чем?
– Сеном… Чем же еще? На овес денег нет, сами знаете.
– Чего же ты от него хочешь? Ладно, что хоть столько проехали. Поворачивай обратно, а то до ночи не доедем.
– Ничего, сейчас отдохнет малость, и дальше тронемся. Доберемся…
Карамышев понял, спорить бесполезно, замолчал, уткнув худой длинный нос в воротник, насупившись, наблюдал, что станет делать дальше Иван. А тот снял рукавицы, быстро-быстро отер ими спину и бока Орлика и, скинув с себя тулупчик, набросил его на влажную конскую спину.
– Совсем загонял тебя хозяин, – нежно зашептал он, наклонясь к конской морде. – Ты уж прости меня, дурака, хорошо? – Жеребец, не моргая, смотрел на него круглым выпуклым глазом, шумно вдыхая ноздрями морозный стылый воздух.
Иван около четверти часа ходил вокруг коня, отирал пот, о чем-то тихо говорил с ним, пока сам не замерз, не начал дрожать. Лишь тогда снял с него тулупчик, надел на себя и забрался в санки, щелкнул вожжами, и жеребчик пошел сперва тихим шагом, а потом, набрав ход, перешел на обычную рысь и без устали принялся отмеривать версту за верстой.
– Следить надобно за конем, – назидательно проговорил Карамышев, но Иван не ответил, и дальше ехали молча, думая каждый о своем.
Дорога шла полями, огибая, а порой пересекая многочисленные лога, которые, словно многопалая рука огромного существа, впившись в землю, тянулись своими извивами к иртышскому берегу. Под снегом скрывались на дне оврагов замерзшие в эту пору ручьи, чистого вкуса ключи, а то и небольшие вязкие болотца, служившие летом прибежищем миллиардов серых тонконогих комаров, живущих лишь самый теплый сибирский сезон, чтоб набраться человеческой или звериной крови, оплодотвориться, отложить в вязкую землю яйца и уйти, умереть, больше уже никогда не появляться на свет. Сейчас стояла самая благодатная пора, когда не было гнуса, комара, паутов и иной жужжащей и зудящей, поющей на все голоса мелюзги, почти не различимой человеческим глазом. Но в весенние долгие дни и короткие, словно легкий обморок, ночи кружащий в лесных перелесках гнус становится недремлющим хранителем, стражем, оберегающим от недоброго чужака сумрачные чащи в пору рождения и мужания звериного, птичьего и иного лесного потомства. Злобно набрасываются они на всякого, кто позволит себе в тот священный час войти под полог леса, посягнуть на жизнь иного беззащитного существа. Никто из опытных старожителей тех мест без особой на то нужды не решится осквернить в раннюю весеннюю пору цветения заповедные и укромные таежные уголки, помешать появлению на свет нового рода. И передается тот обычай от отца к сыну, продолжая жить бок о бок с иным, но столь близким человеку миром тайги. Иначе… быть здесь пустыне безжизненной и мертвой.
Зимой, когда снег и лед делали одинаково похожими холмы и леса, скрывали норы, дупла, муравейники, берлоги и звериные лежбища, тем более не было возможности для алчного постороннего человека вторгнуться в лесной мир и навредить ему, не рискуя при том собственной жизнью. Не всякий способен выбраться обратно из стылого таежного урмана, углубившись в него чуть в сторону от проезжей дороги. Бог столь мудро обустроил мир, разведя, обособив мир человека от мира зверей, что не перестаешь удивляться мудрости и любви Создателя ко всему сущему.
К Абалакскому монастырю подъехали совсем уже в потемках. Окончательно уставший, выбившийся из сил Орлик медленно переставлял ноги и, дойдя до ворот обители, ткнулся лбом в ворота и так замер. Долго стучали, дожидаясь, пока заспанный монах вышел к ним и на вопрос о владыке согласно кивнул головой, мол, здесь, да только отдыхает.
– По какому делу пожаловали? Может, весть какая из Петербурга? – выпытывал он, пытаясь узнать о цели их приезда.
– Владыке о том самолично доложим, – постукивая зубами от холода, ответил Карамышев, давая понять, что с простым служкой говорить не станет.
– Может, разбудить владыку? – засуетился монах. – Он так и повелел, коль из Петербургу кто прискачет… Давно, видать, ждет.
– Да не из столицы мы, свои, тобольские люди, – успокоил его Карамышев, – только ты это, христовенький, определи-ка нас на ночлег да вели щей горячих или чего иного подать. Озябли вконец, сил нет никаких.
Их проводили в глубину монастырского двора, где стояла небольшая, об одно окно избушка, которая, судя по всему, служила для приема случайных постояльцев, а потому внутри было не топлено, и служитель едва сумел открыть примерзшую к косяку дверь. Пока Иван и Карамышев озирались внутри сумрачного ночлега, монах успел притащить охапку березовых поленьев и сноровисто растопил небольшую, но оказавшуюся весьма жаркой печурку, а вскоре принес и ужин. Иван попросил его позаботиться об Орлике, поставить в монастырскую конюшню, дать корм, напоить.
– Непременно все исполню, – легко согласился тот, – владыка велел всех гостей монастырских привечать как должно, по-христиански. – Ночуйте с Богом и ни о чем не беспокойтесь.
Разбудил их негромкий, но явственно слышный колокольный перезвон, и вскоре зашел вчерашний монах, сообщив им, что владыка примет их сразу после службы, а сейчас приглашает пройти в храм на заутреню.
Ивана поразило внутреннее убранство храма своей сдержанностью и обилием старых, потемневших от времени икон. Над царскими вратами иконостаса помещалась главная икона монастыря – Чудотворная икона Божией Матери, на которой была изображена сама Богородица с Христом во чреве и предстоящими Николаем Чудотворцем и Марией Египетской. Иван слышал, что именно в таком виде Богородица являлась несколько раз одной абалакской жительнице, которая поведала обо всем духовным властям, а через какое-то время местный иконописец написал образ Божией Матери. Икона эта известна в Тобольске и по всей Сибири тем, что приносит излечение болящим и немощным. Чудотворную каждое лето приносят в Тобольск с крестным ходом и оставляют на какой-то срок в городе, перенося из храма в храм. В это время в Тобольск съезжается множество паломников со всех концов Сибири, а иные едут на поклонение к Чудотворной даже из-за Урала, прослышав о многочисленных чудесах исцеления болящих.
Иван помнил, как мать с отцом брали его вместе с сестрами, еще детьми, на встречу с Чудотворной, одевались в лучшие одежды, и в доме сразу начинало пахнуть праздником, пеклись блины и куличи, все улыбались, радовались, отец почти на неделю закрывал лавку, ездил по родне и знакомым с поздравлениями. Потом в какой-то момент все изменилось: повыходили замуж сестры, Василий Павлович год от года мрачнел, это сейчас Иван понимал, уже в то время дела у отца шли плохо. То по молодости думал, посердится родитель, и все пройдет, успокоится. Нет, не успокоилось, не утихло, а ушел из дома праздник, радости сменились заботами, каждодневными хлопотами, обыденной суетой. Может потому и хотелось Ивану вырваться из этого заскорузлого торгового скучного мира, что желалось видеть, пусть не каждый день, праздник, радость, веселье настоящее, а не подменное, приходящее во время пьяных гулянок и застолий. Видел по братьям своим двоюродным, по Корнильевым, как все глубже и глубже увязали те в делах, в скукотище от каждодневного щелканья костяшек на счетах, позволяющих увидеть, что убыло и сколько прибыло. И не замечают они при том, что их самих за теми кулями, мешками, сундуками, корзинами и не видно… Когда Иван вспоминал о своих двоюродных братьях-купцах, коих почитали и побаивались все в городе, то первое, что вставало у него перед глазами, – это низкий почерневший, давно не беленный от скупости и нехватки времени потолок лавки, где те проводили в подсчетах все дни и лучшие свои годы. Только лишь в престольные праздники, влекомые на службу в храм женами, родней, знакомыми, с неохотой прекращали торговлю, вешали пудовые замки на лавки и амбары, словно улитка с раковиной, расставаясь с милой обителью на незначительный срок.
Вся жизнь, весь уклад в корнильевских семьях были подчинены одному-единственному правилу: день прошел зря, ежели хоть пятачок, полушка не звякнули в кошеле, прибавившись к прочим. Умом Иван понимал своих родичей и, упаси Бог, никогда не решился бы высказать им свое отношение вслух, но сердцем, душой ему был противен тот мир непрестанного и каждодневного корпения, просиживания над приходно-расходными книгами, старания разбогатеть даже за счет беды близкого человека, лишь бы соблюсти собственную выгоду.
Абалакская чудотворная икона Божией Матери, перед которой он сейчас стоял, звала, манила в иной мир – чистый и бесхитростный. Ее руки, воздетые к небу, как бы говорили о существовании иного бытия, где нет места обману, извечной заботе о пропитании. Чудотворная призывала к радости, празднику души, отказу от бренности. И низкий сводчатый потолок храма, освещаемый неровным светом десятка свечей, говорил о тяжести земных забот, давящих грузом, не пускающих туда вверх, к небесам. И все святые, писанные на больших, почти в рост человека, досках, подчеркивали, напоминали своей позой, поворотом головы, взглядом, что любой человек на грешной земле находится на ней словно на раскаленной сковороде и пройдет миг, как он воспарит, поднимется к небесам, к чистому небу, мало что успев оставить после себя, разве что короткую память, добрую или злую, в зависимости от понимания собственного предназначения.
– Спишь, что ли? – тронул его за рукав Карамышев.
– А что? – вздрогнул Иван, посмотрел вокруг. Служба заканчивалась, монахи и прихожане уже подходили к кресту, который держал собственноручно владыка Сильвестр, ласково улыбаясь каждому. Иван с Карамышевым оказались последними при крестоцеловании и, приложившись к распятию, пошли к выходу, где их уже поджидал все тот же монах, тихо сообщивший, чтоб шли следом за ним.
Приемная комната митрополита оказалась в длину не более пяти шагов, с небольшими оконцами и низким потолком. Вся противоположная от входа стена ее была увешана иконами, а длинный стол на резных точеных ножках завален книгами и бумагами. Ивану не приходилось прежде встречаться с владыкой, но он слышал от многих, что тот слыл большим книжником, собирал старые грамоты и рукописи, и даже сам написал несколько книг, а потому он немного робел и понятия не имел, о чем станет вести разговор с митрополитом. Оставалось надеяться на тестя, который, наоборот, держался подчеркнуто независимо и все вытягивал вперед острый, успевший покрыться за ночь щетиной, подбородок.
Владыка неожиданно для них вошел через боковую небольшую дверцу, которую Иван не заметил, низко нагнув голову, а когда распрямился, пристально глянул на них, то показался вблизи еще выше ростом и необычайно худым, с бледным лицом, глубоко посаженными черными проницательными глазами. Иван и Андрей Андреевич шагнули под благословление и поспешили сесть на обыкновенную деревенского вида лавку, стоящую подле стены. Сам владыка опустился в простое деревянное кресло и, облокотясь на стол, изучающе посмотрел на них, чуть кашлянув, спросил глухим надтреснутым голосом:
– Что привело вас ко мне? Слушаю.
– Владыке, верно, известно, как пострадал я от рук неверных…
– Слышал, слышал, – коротко кивнул тот, пристально вглядываясь при этом в Ивана.
– Теперь принужден жительствовать у зятя моего, Ивана Зубарева, – как-то по-книжному продолжил Карамышев, – в деревеньке, неподалеку от Тюмени, именуемой Помигаловой… – Владыка молчал, ожидая, когда тот перейдет к сути дела. – А тут свояк мой Богу душу отдал. – Андрей Андреевич никак не мог нащупать нить разговора. Иван даже усмехнулся про себя, радуясь растерянности всегда излишне самоуверенного тестя. – Да после себя долгов наоставлял, – продолжал тот, – а потому, ваше высокопреосвященство, имеем дерзость припасть к стопам вашим со смиренной просьбой, благословите начатое нами дело, – закончил он и замолчал, так ничего толком и не изложив.