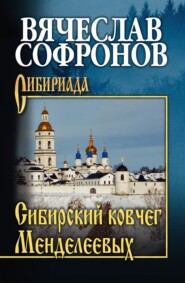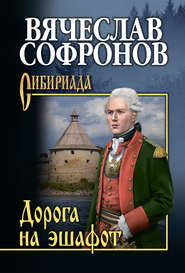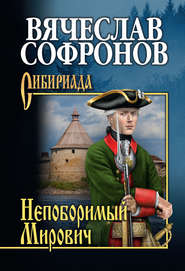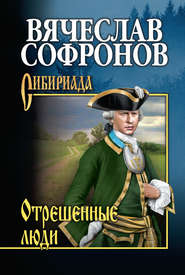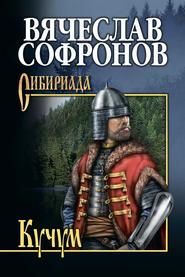По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сибирские сказания
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вишь, допился, – царь его жалеет, – и слова сказать не умеет. Ладно, помогу твоему горю, отпущу на волю, иди на все четыре стороны, куда не летают черные вороны. А я издам указ, всем целовальникам наказ, чтоб они тебя привечали, вином-брагой угощали, наливали столько, прокукуешь сколько.
Поклонился псарь, как смог, ткнулся башкой в царев сапог, закуковал пуще прежнего, понесся-побежал что есть мочи, куда глядят очи, до ближнего кабака глотнуть с устатку пивка.
И ходил он так по всей земле, по чужой стороне ни трезв, ни пьян, пустой карман, а как увидит кабак, закукует и день-деньской пирует. А через год-другой добрел он до города до Тобольска, где босиком с горы бежать скользко, а в сапогах тяжело, зато пьяным живется весело. Засел в кабак подле Никольской горы и гуляет до поры, кукует с утра до вечера, коль делать боле нечего. И мужики-тоболяки тот манер у него переняли: коль выпить захотят, то куковать начинали, а как пропьют все манатки, то и взятки гладки, выйдут во двор, вновь закукуют, по-своему затокуют.
Так и пошло прозванье за тем кабаком «Кукуй», хоть смейся, хоть горюй, а выпить не на что, то и в кабак соваться нечего. Эдак пить – только людей смешить. По-нашему как запил, так и ворота запер, а коль будешь долго куковать, то неча будет и запирать.
Вот так и живем-можем, о том вам доложим: лошадь продали, сани купили, в них добро сложили, повезли в кабак, отдали за так, все до нитки отдали, на вино поменяли, а как проспались, куковали-плакали, слезы капали. Тем и сыты, что мало биты. Горюй, не горюй, а попал в «Кукуй» – против ветра не плюй.
Про Казачий взвоз и бороды запретные
Стоит город Тобольск на горах крутых меж лесов вековых, а те холмы-горочки логами-оврагами изрезаны-промыты, потом людским покрыты. Как наверх взбираться начнешь, всех богов соберешь. Где человек пройдет, там и конь поклажу везет. Вот как острог срубили-сладили, то и взвоз на нижний посад копать начали. Воротную башню поставили, от лихих людишек-варнаков зыкрывали-запирали, с приезжих купцов плату взимали.
Ехал раз Митька-казак домой вечерней порой. Припозднился-загулял у кума на именинах, посидел малость у соседа на крестинах, выпил-закусил, обо всем позабыл – все казаку мало, а там и ночь на двор пала. Едет он верхом на коне вороном, песню горланит-поет, а дом свой никак не найдет.
– Вроде был где-то подъем-взвоз, да не туда меня черт занес. Водит казака лысый леший-лешак, на пакости мастак, крутит-вертит, башку дурит. Да не с тем связался, не за тою принялся! – Подхлестнул конька-воронка посильней, погнал рысью веселей. Вдруг глядь-поглядь, а перед ним ворота, плотницкая работа. На обе створки закрыты – не пролезть ужом, не перелететь соколом. Стукнул-ударил Митька-казак по створочкам, брякнул но досочкам, закричал дурным голосом:
– Кто смел-посмел супротив меня ворота поставить да закрыть накрепко?! Сколь разов тут езжал-проезжал, сроду их не было. Открывайте, казака пропускайте, а не то худо будет всем, коль осерчаю совсем!
А в ответ ему кричат стражники с дозорной башни с усмешечкой:
– Ты, казак-баламут, борода сивая, рожа спесивая, не буди народ, не тревожь людей, оставайся до утра, до солнышка. На то мы здесь воеводой поставлены снаряжены, чтоб держать, не пущать воров-татей полуночных.
– Так то я тать?! – Митька-казак заорал-заблажил куще прежнего. – Я разбойничек?! Ах вы, воротники сизорылые, чуфырлы немытые, давно не битые! Доберусь до вас, отхлещу плеточкой, кулаком сочту ребра-ребрышки, с караульных башенок поскиды-ваю! Будете помнить казака-удальца, как домой его не пущали да ворота запирали!
Соскочил Митька-казак с ворона коня, перемахнул через забор-заплот, налетел на стражников-караульщиков, покидал-пошвырял вниз на землю, посчитал кулаком все их ребрышки, разукрасил так, что родная мать не узнает, кого принимает. Растворил ворота, иди кому охота, и поехал не спеша, развеселая душа. А наутро спозараночку от воеводы главного наипервейшего заявились стрельцы-ратники, навалились на Митеньку, повязали накрепко, да и свели в острог-тюрьму при воеводском дому.
Вот вызывает Митьку-казака главный воевода, суд-расправу чинит, его выспрашивает:
– Как ты смел-сумел моего приказа ослушаться, потемну по городу шляться-мыкаться, караульщиков смертно бить, самовольно открывать-распахивать воротины? За вину твою повелю всыпать сто плетей, без всяких затей, да и выслать навсегда из города, словно ворога.
Вложили Митьке-казаку сто горяченьких, как велено-положено, да прочь с Тобольску-города отправили. А осталась у него соседка-любовь, молодая девка Аленушка, зазноба-сластенушка. Как вечерок придет, солнце красное за гору упадет, Митька-казак ложком-тропочкой к ней пробирается, до зорьки алой милуется.
Прознал про то воевода, наслал в засаду своего народа, чтоб Митьку-казака на месте взять да сызнова наказать. Только Митька-казак был большой мастак, спрятался-затаился, быстрой ящеркой вился, ушел в лес от воеводских слуг-неумех. Сколь казака не ловили, не искали, а взять ни разу не взяли. Остальные казаки глядели-смотрели, как их дружка-казачка ловят-промышляют, жалости не знают, да и решили-скумекали свою дорожку в город прорыть-проторить, где лишь казакам ходить. Сказано – сделано. Как удумали, так и вырешили: прорыли меж холмиков тропку узкую с нижнего посада на верхний. И себе путь-дорогу укоротили и Митьке торную дорожку открыли.
А воевода скоро за делами-заботами забыл-запамятовал про казака-своевольника, ночного разбойника. На ту пору от самого царя-батюшки сурьезный указ-наказ пришел – всем служивым людям обличье поменять, бороды начисто сбрить, лицо оголить. А кто ослушается, того в острог на полный срок. Зачитали царев указ на площади, воевода главный принародно сам себе бороду состриг-скромсал, клочки по ветру развеял. Только народ тобольский стоит, чего-то бурчит, а бороды сымать-стричь не желает, цирюльников до лица не пускает. Пуще всех казаки-удальцы осерчали-осердились, на указ царев обозлились.
– У нас бороды спокон веку в чести, нельзя их по-иноземному сечь-стригчи. И Бог Саваоф, и святые угодники бороды носили, не снимали, да и нам завещали.
Воевода нос в цареву бумагу сунул, чего-то там выискал, говорит:
– Про казаков отдельный сказ, иной указ. Вам велено заместо бороды носить усы любой длины, хоть до пуза, а вырастут, так и до пят, на ваш погляд.
– Не желаем такого сказа-указа! – Казаки орут-галдят. – Нам лишь борода в честь, а усы так и у кота есть! Кто свою бороду бреет-сымает, тот и честь с ней теряет!
Орали-спорили, долго гуторили, по домам разошлись, накрепко заперлись. Воеводе хоть плачь, а надобно царю в столицу ответ писать, гонца отправлять, о бритых бородах сообщать. А тут Митька-казак на выдумки мастак, на порог к воеводе заходит, издалека речь заводит:
– Послушай меня, воевода-князь, коль пошла не та масть, на тебя обиды не держу, дай, свое слово скажу. Никак нам, казакам, без бороды не должно жить, иначе не может и быть, служили мы испокон веку честно-справно, воевали за царя-батюшку, охраняли Сибирь-матушку. Вот и сейчас-теперь отправь нас в дальний край на Студеное море-океан дороги искать, остроги-зимовья ставить, народ некрещеный к присяге приставить, верой-правдой до смерти служить, как должно то и быть. А в столицу отпиши, мол, приказ-наказ выполнен, бороды у всех поснимали, а кто в дальней земле, чужой стороне, как обратно возвернутся-придут, тогда и их подстригут.
Поскреб воевода-князь пятерней в затылке, огладил подбородок голый-бритый, ветру открытый, глаз голубой сощурил-выщурил, на Митьку-хитрована глянул, усмехнулся, про себя чертыхнулся, да и говорит-ответствует:
– А, будь по-вашему! Царь далеко, Бог высоко, с вами, казаками, свару-правеж затевать – добра не видать. Идите на Студеное море-океан, ищите дороги по всей Сибири-матушке, остроги рубите, да вовремя обо всем доносите, меха богатые в казну исправно шлите. Пока суд да дело, глядишь, и время пролетело. Может, иной указ придет, бороды вам обратно вернет.
Ушли казаки-озорники в иные земли, в неведомые края от воеводы-князя далеко, где найти их нелегко. Городки-остроги в лесах рубят-ставят, по бурным рекам на ладьях-стругах плывут, встреч солнца гребут, конец-край землицы сибирской ищут, по свету свищут, племена-народы к присяге приводят, под закон подводят. Исправно подати собирают, в город Тобольск отправляют, женам-девицам, другим молодицам при случае весточки шлют, о себе знать дают.
Много ли, мало ли годков-годиков прошло, пробежало, как с печи упало, а вернулись казаки обратно к семьям родным, к женам дорогим. С ними и Митька-казак не абы как, стал добрым малым, мужиком удалым. А девка Алена дождалась дружка милого, нравом строптивого. И пошел с ней под венец тот казак-молодец, стали жить-поживать, деток малых поджидать.
К тому времени казакам послабление вышло-пришло, что бороды им носить разрешено за всякие заслуги, для царя услуги. Вот так, кто смел, тот и съел, наперед успел.
А ложок тот, по которому Митька-казак когда-то крался-пробирался, от людей воеводских прятался, с тех пор Казачьим зовут, и многие казаки подле него живут. Если б казаки Сибирь не взяли, землицу новую не проведали, то и мы бы с вами здесь не жили. Вот как сядем в праздник за столом, их добрым словом помянем, по чарочке выпьем, еще нальем да старую песню вместе споем, как казаки Сибирь обживали, на нас оставляли.
Про речку Курдюмку, тетку Агафью и воронье тобольское
Всякая ворона своему гнезду оборона. Не смотри на птичку, а спроси про кличку. Сказывают, будто гуси криком-гоготом Рим спасли, врагов отвели. Так и у нас бывало, что ворона в рот залетала, на голове гнездо свивала, птенцов выводила, в лес уводила. А кто ворону поймает, тот и счастье потеряет, дома лишится, с жизнью простится.
Течет в Тобольске по низу горы речка, тонка, как свечка, берега зыбкие, как кисель, хлипкие. Домишки неказистые по бережку стояли, люди разные в них живали, не то чтобы с прибылью, но и себе не в убыток.
А боле всего ту речку воронье любило, артельно жило, вокруг вьются, летают, тучи крыльями разгоняют. Вот на том-то бережку, с краешку, жила тихохонько, скромнехонько тетка Агафья прозванием Дерюга, всему воронью подруга. Сама с вороною обличьем схожа – нос кочергой и смоляная рожа, а еще повадкой близка – сварлива, в делах суетлива. Дерюга, она Дерюга и есть, по делам и честь. Только воронье ту Агафью будто за свою признавало, бывалочи, облепит всю крышу, по забору кривому, повалившемуся гроздьями сидит, по-вороньему галдит-грает, хозяйке приветы посылает. Но в огород на гряды ни одна не сядет, овощ не спортит, не склюет, хозяйское добро бережет. А Агафья из дому с клюкой как выйдет, на них зыркнет, враз притихнут-замолчат, тихохонько сидят.
Сказывали, будто та Агафья-Дерюга знатно ворожила, наговорами разными лечила. Вот соседи ее и боялись, лишний раз во двор не совались. А со временем стали они замечать-примечать ночных гостей, недобрых людей, что на двор к той Агафье шастают, калиткой брякают, в мешках чего-то несут, долгие беседы с хозяйкой ведут. И что интересно, вороны в гнездах молчат, сроду на тех гостей тайных не вскричат. То, что знает Машка, прознает и Глашка, а там и Ивашка. Говорят с уха на ухо, а слышно с угла на угол. Малое время, короткий срок, а дошло и до городских товарок-сорок. Растрещали-растрезвонили про Агафьиных гостей, от себя добавили всяких страстей, будто детей воруют да ими торгуют.
Дошло до пристава, донеслось до городничего, глядишь, и самому губернатору по ранжиру доложили-обсказали, малость от себя добавили. Губернатор мешкать не стал, снарядил команду воинскую из храбрых солдат боевых, офицеров молодых. Солдату, где б ни жить, лишь бы служить, а коль воевать, о голове не горевать. Ружья-винтовочки на плечо вскинули да на двор Агафьин строем двинули. Перешли речку через мосток из трех досок, в грязище по уши вымазались, дальше двинулись. А тут сверху чего-то как громыхнет, кто-то как заорет, черная туча солнце застила, солдатиков тенью накрыла. То галки-вороны к небу взвились, прочь понеслись, гомон-гвалт подняли, солдат напугали. Стоят те ни живы ни мертвы, держатся за животы. Капрал с крестом на груди был впереди, а хватились, спрятался под кустом, и шапки нет на нем. Сконфузились солдатики-касатики, двинулись дальше строем, головы вверх дерут, слушают, как галки-вороны на них орут.
Встречает их Агафья-Дерюга на крылечке с клюкой в руках на костлявых ногах:
– Чего случилось-сделалось, служивые, ребята ретивые? Али неприятель в город взошел, войну начал, нас в полон взял? Я сама на ухо туга, на глаза слепа, ничегошеньки не видала, дажесь выстрелов не слыхала…
– Что было, то видели, а что будет, то увидим и тебе, тетка, покажем, не обидим, – офицерик ей отвечает, своим словом привечает. – А пока дело да суд, уж ты не обессудь, покажи свою избу, как солдат на плацу.
– И чего это тебе в моей избе делать-примечать, разрешите узнать?
– Чего не найдем, того не возьмем. Наше дело – приказ выполнять, тебя, тетка, проверять, а твое дело – дверь отворить, нас пригласить.
Делать нечего, ввела их Агафья в дом, перевернули-переворошили там все солдатики вверх дном, только не нашли ничего приметного, товару запретного. На том и ушли-отбыли, обратно поплыли. Доложили губернатору по ранжиру: мол, так и так, ничегошеньки у Агафьи Дерюги не сыскали, лишь ворон распугали, народ насмешили, так спешили. Губернатор брови свел, парик белый поправил, табакерочку к носу приставил, на офицерика глянул-поглядел и так повелел:
– Устроить ночью засаду, всех подозрительных словить, в тюрьму посадить, утром мне доложить.
Поплелись солдатики в засаду по нижнему посаду, ус на ходу жуют, под ноги плюют, тетку Агафью ругают, ворон проклинают. Дошли до речки, ступили на мост в три дощечки, а вороны тут как тут, будто их ждут: налетели со всех сторон, словно весной гроза-гром, крыльями по головам солдат бьют, на всю округу орут. Осерчал офицерик, саблю выхватил, воздух рубит-частит, команду солдатикам кричит:
– В ружье! Готовсь! Пли! По тварям-чертовкам, лешего золовкам!
Солдатушки-ребятушки, бравые головушки, рады стараться, по воронам палят, зарядов не жалеючи, ловко да умеючи. И часа не прошло, как разогнали чертовок без всяких уловок. Дым над речкой висит, в ушах вороний грай стоит.
После того вороньего сраженья-баталии пропала Агафья-Дерюга, воронья подруга. Видать, в иные края подалась промышлять-ворожить, добрым людям головы кружить. Пропала навсегда, словно и не было никогда.
А раз налетела буря-ураган, повырвала деревья с корнем, на землю повалила-опрокинула, гнезда вороньи порушила. Глянь, а там добра всякого напрятано-сокрыто не одно корыто. Кто бы подумал, что воровской товар в вороньих гнездах лежал? Вот тебе и ворона, всем ворам оборона.
С тех пор и пошло-повелось речку ту прозывать по баталии – кар да дым, а по-нашему и вышло, Курдюмка – для ворья-ворон задумка. Так она подле горы до сих пор бежит, к Иртышу спешит. Выйди к ней вечерком, послушай ладком: о чем журчит, какие вести людям рассказать норовит.
Поклонился псарь, как смог, ткнулся башкой в царев сапог, закуковал пуще прежнего, понесся-побежал что есть мочи, куда глядят очи, до ближнего кабака глотнуть с устатку пивка.
И ходил он так по всей земле, по чужой стороне ни трезв, ни пьян, пустой карман, а как увидит кабак, закукует и день-деньской пирует. А через год-другой добрел он до города до Тобольска, где босиком с горы бежать скользко, а в сапогах тяжело, зато пьяным живется весело. Засел в кабак подле Никольской горы и гуляет до поры, кукует с утра до вечера, коль делать боле нечего. И мужики-тоболяки тот манер у него переняли: коль выпить захотят, то куковать начинали, а как пропьют все манатки, то и взятки гладки, выйдут во двор, вновь закукуют, по-своему затокуют.
Так и пошло прозванье за тем кабаком «Кукуй», хоть смейся, хоть горюй, а выпить не на что, то и в кабак соваться нечего. Эдак пить – только людей смешить. По-нашему как запил, так и ворота запер, а коль будешь долго куковать, то неча будет и запирать.
Вот так и живем-можем, о том вам доложим: лошадь продали, сани купили, в них добро сложили, повезли в кабак, отдали за так, все до нитки отдали, на вино поменяли, а как проспались, куковали-плакали, слезы капали. Тем и сыты, что мало биты. Горюй, не горюй, а попал в «Кукуй» – против ветра не плюй.
Про Казачий взвоз и бороды запретные
Стоит город Тобольск на горах крутых меж лесов вековых, а те холмы-горочки логами-оврагами изрезаны-промыты, потом людским покрыты. Как наверх взбираться начнешь, всех богов соберешь. Где человек пройдет, там и конь поклажу везет. Вот как острог срубили-сладили, то и взвоз на нижний посад копать начали. Воротную башню поставили, от лихих людишек-варнаков зыкрывали-запирали, с приезжих купцов плату взимали.
Ехал раз Митька-казак домой вечерней порой. Припозднился-загулял у кума на именинах, посидел малость у соседа на крестинах, выпил-закусил, обо всем позабыл – все казаку мало, а там и ночь на двор пала. Едет он верхом на коне вороном, песню горланит-поет, а дом свой никак не найдет.
– Вроде был где-то подъем-взвоз, да не туда меня черт занес. Водит казака лысый леший-лешак, на пакости мастак, крутит-вертит, башку дурит. Да не с тем связался, не за тою принялся! – Подхлестнул конька-воронка посильней, погнал рысью веселей. Вдруг глядь-поглядь, а перед ним ворота, плотницкая работа. На обе створки закрыты – не пролезть ужом, не перелететь соколом. Стукнул-ударил Митька-казак по створочкам, брякнул но досочкам, закричал дурным голосом:
– Кто смел-посмел супротив меня ворота поставить да закрыть накрепко?! Сколь разов тут езжал-проезжал, сроду их не было. Открывайте, казака пропускайте, а не то худо будет всем, коль осерчаю совсем!
А в ответ ему кричат стражники с дозорной башни с усмешечкой:
– Ты, казак-баламут, борода сивая, рожа спесивая, не буди народ, не тревожь людей, оставайся до утра, до солнышка. На то мы здесь воеводой поставлены снаряжены, чтоб держать, не пущать воров-татей полуночных.
– Так то я тать?! – Митька-казак заорал-заблажил куще прежнего. – Я разбойничек?! Ах вы, воротники сизорылые, чуфырлы немытые, давно не битые! Доберусь до вас, отхлещу плеточкой, кулаком сочту ребра-ребрышки, с караульных башенок поскиды-ваю! Будете помнить казака-удальца, как домой его не пущали да ворота запирали!
Соскочил Митька-казак с ворона коня, перемахнул через забор-заплот, налетел на стражников-караульщиков, покидал-пошвырял вниз на землю, посчитал кулаком все их ребрышки, разукрасил так, что родная мать не узнает, кого принимает. Растворил ворота, иди кому охота, и поехал не спеша, развеселая душа. А наутро спозараночку от воеводы главного наипервейшего заявились стрельцы-ратники, навалились на Митеньку, повязали накрепко, да и свели в острог-тюрьму при воеводском дому.
Вот вызывает Митьку-казака главный воевода, суд-расправу чинит, его выспрашивает:
– Как ты смел-сумел моего приказа ослушаться, потемну по городу шляться-мыкаться, караульщиков смертно бить, самовольно открывать-распахивать воротины? За вину твою повелю всыпать сто плетей, без всяких затей, да и выслать навсегда из города, словно ворога.
Вложили Митьке-казаку сто горяченьких, как велено-положено, да прочь с Тобольску-города отправили. А осталась у него соседка-любовь, молодая девка Аленушка, зазноба-сластенушка. Как вечерок придет, солнце красное за гору упадет, Митька-казак ложком-тропочкой к ней пробирается, до зорьки алой милуется.
Прознал про то воевода, наслал в засаду своего народа, чтоб Митьку-казака на месте взять да сызнова наказать. Только Митька-казак был большой мастак, спрятался-затаился, быстрой ящеркой вился, ушел в лес от воеводских слуг-неумех. Сколь казака не ловили, не искали, а взять ни разу не взяли. Остальные казаки глядели-смотрели, как их дружка-казачка ловят-промышляют, жалости не знают, да и решили-скумекали свою дорожку в город прорыть-проторить, где лишь казакам ходить. Сказано – сделано. Как удумали, так и вырешили: прорыли меж холмиков тропку узкую с нижнего посада на верхний. И себе путь-дорогу укоротили и Митьке торную дорожку открыли.
А воевода скоро за делами-заботами забыл-запамятовал про казака-своевольника, ночного разбойника. На ту пору от самого царя-батюшки сурьезный указ-наказ пришел – всем служивым людям обличье поменять, бороды начисто сбрить, лицо оголить. А кто ослушается, того в острог на полный срок. Зачитали царев указ на площади, воевода главный принародно сам себе бороду состриг-скромсал, клочки по ветру развеял. Только народ тобольский стоит, чего-то бурчит, а бороды сымать-стричь не желает, цирюльников до лица не пускает. Пуще всех казаки-удальцы осерчали-осердились, на указ царев обозлились.
– У нас бороды спокон веку в чести, нельзя их по-иноземному сечь-стригчи. И Бог Саваоф, и святые угодники бороды носили, не снимали, да и нам завещали.
Воевода нос в цареву бумагу сунул, чего-то там выискал, говорит:
– Про казаков отдельный сказ, иной указ. Вам велено заместо бороды носить усы любой длины, хоть до пуза, а вырастут, так и до пят, на ваш погляд.
– Не желаем такого сказа-указа! – Казаки орут-галдят. – Нам лишь борода в честь, а усы так и у кота есть! Кто свою бороду бреет-сымает, тот и честь с ней теряет!
Орали-спорили, долго гуторили, по домам разошлись, накрепко заперлись. Воеводе хоть плачь, а надобно царю в столицу ответ писать, гонца отправлять, о бритых бородах сообщать. А тут Митька-казак на выдумки мастак, на порог к воеводе заходит, издалека речь заводит:
– Послушай меня, воевода-князь, коль пошла не та масть, на тебя обиды не держу, дай, свое слово скажу. Никак нам, казакам, без бороды не должно жить, иначе не может и быть, служили мы испокон веку честно-справно, воевали за царя-батюшку, охраняли Сибирь-матушку. Вот и сейчас-теперь отправь нас в дальний край на Студеное море-океан дороги искать, остроги-зимовья ставить, народ некрещеный к присяге приставить, верой-правдой до смерти служить, как должно то и быть. А в столицу отпиши, мол, приказ-наказ выполнен, бороды у всех поснимали, а кто в дальней земле, чужой стороне, как обратно возвернутся-придут, тогда и их подстригут.
Поскреб воевода-князь пятерней в затылке, огладил подбородок голый-бритый, ветру открытый, глаз голубой сощурил-выщурил, на Митьку-хитрована глянул, усмехнулся, про себя чертыхнулся, да и говорит-ответствует:
– А, будь по-вашему! Царь далеко, Бог высоко, с вами, казаками, свару-правеж затевать – добра не видать. Идите на Студеное море-океан, ищите дороги по всей Сибири-матушке, остроги рубите, да вовремя обо всем доносите, меха богатые в казну исправно шлите. Пока суд да дело, глядишь, и время пролетело. Может, иной указ придет, бороды вам обратно вернет.
Ушли казаки-озорники в иные земли, в неведомые края от воеводы-князя далеко, где найти их нелегко. Городки-остроги в лесах рубят-ставят, по бурным рекам на ладьях-стругах плывут, встреч солнца гребут, конец-край землицы сибирской ищут, по свету свищут, племена-народы к присяге приводят, под закон подводят. Исправно подати собирают, в город Тобольск отправляют, женам-девицам, другим молодицам при случае весточки шлют, о себе знать дают.
Много ли, мало ли годков-годиков прошло, пробежало, как с печи упало, а вернулись казаки обратно к семьям родным, к женам дорогим. С ними и Митька-казак не абы как, стал добрым малым, мужиком удалым. А девка Алена дождалась дружка милого, нравом строптивого. И пошел с ней под венец тот казак-молодец, стали жить-поживать, деток малых поджидать.
К тому времени казакам послабление вышло-пришло, что бороды им носить разрешено за всякие заслуги, для царя услуги. Вот так, кто смел, тот и съел, наперед успел.
А ложок тот, по которому Митька-казак когда-то крался-пробирался, от людей воеводских прятался, с тех пор Казачьим зовут, и многие казаки подле него живут. Если б казаки Сибирь не взяли, землицу новую не проведали, то и мы бы с вами здесь не жили. Вот как сядем в праздник за столом, их добрым словом помянем, по чарочке выпьем, еще нальем да старую песню вместе споем, как казаки Сибирь обживали, на нас оставляли.
Про речку Курдюмку, тетку Агафью и воронье тобольское
Всякая ворона своему гнезду оборона. Не смотри на птичку, а спроси про кличку. Сказывают, будто гуси криком-гоготом Рим спасли, врагов отвели. Так и у нас бывало, что ворона в рот залетала, на голове гнездо свивала, птенцов выводила, в лес уводила. А кто ворону поймает, тот и счастье потеряет, дома лишится, с жизнью простится.
Течет в Тобольске по низу горы речка, тонка, как свечка, берега зыбкие, как кисель, хлипкие. Домишки неказистые по бережку стояли, люди разные в них живали, не то чтобы с прибылью, но и себе не в убыток.
А боле всего ту речку воронье любило, артельно жило, вокруг вьются, летают, тучи крыльями разгоняют. Вот на том-то бережку, с краешку, жила тихохонько, скромнехонько тетка Агафья прозванием Дерюга, всему воронью подруга. Сама с вороною обличьем схожа – нос кочергой и смоляная рожа, а еще повадкой близка – сварлива, в делах суетлива. Дерюга, она Дерюга и есть, по делам и честь. Только воронье ту Агафью будто за свою признавало, бывалочи, облепит всю крышу, по забору кривому, повалившемуся гроздьями сидит, по-вороньему галдит-грает, хозяйке приветы посылает. Но в огород на гряды ни одна не сядет, овощ не спортит, не склюет, хозяйское добро бережет. А Агафья из дому с клюкой как выйдет, на них зыркнет, враз притихнут-замолчат, тихохонько сидят.
Сказывали, будто та Агафья-Дерюга знатно ворожила, наговорами разными лечила. Вот соседи ее и боялись, лишний раз во двор не совались. А со временем стали они замечать-примечать ночных гостей, недобрых людей, что на двор к той Агафье шастают, калиткой брякают, в мешках чего-то несут, долгие беседы с хозяйкой ведут. И что интересно, вороны в гнездах молчат, сроду на тех гостей тайных не вскричат. То, что знает Машка, прознает и Глашка, а там и Ивашка. Говорят с уха на ухо, а слышно с угла на угол. Малое время, короткий срок, а дошло и до городских товарок-сорок. Растрещали-растрезвонили про Агафьиных гостей, от себя добавили всяких страстей, будто детей воруют да ими торгуют.
Дошло до пристава, донеслось до городничего, глядишь, и самому губернатору по ранжиру доложили-обсказали, малость от себя добавили. Губернатор мешкать не стал, снарядил команду воинскую из храбрых солдат боевых, офицеров молодых. Солдату, где б ни жить, лишь бы служить, а коль воевать, о голове не горевать. Ружья-винтовочки на плечо вскинули да на двор Агафьин строем двинули. Перешли речку через мосток из трех досок, в грязище по уши вымазались, дальше двинулись. А тут сверху чего-то как громыхнет, кто-то как заорет, черная туча солнце застила, солдатиков тенью накрыла. То галки-вороны к небу взвились, прочь понеслись, гомон-гвалт подняли, солдат напугали. Стоят те ни живы ни мертвы, держатся за животы. Капрал с крестом на груди был впереди, а хватились, спрятался под кустом, и шапки нет на нем. Сконфузились солдатики-касатики, двинулись дальше строем, головы вверх дерут, слушают, как галки-вороны на них орут.
Встречает их Агафья-Дерюга на крылечке с клюкой в руках на костлявых ногах:
– Чего случилось-сделалось, служивые, ребята ретивые? Али неприятель в город взошел, войну начал, нас в полон взял? Я сама на ухо туга, на глаза слепа, ничегошеньки не видала, дажесь выстрелов не слыхала…
– Что было, то видели, а что будет, то увидим и тебе, тетка, покажем, не обидим, – офицерик ей отвечает, своим словом привечает. – А пока дело да суд, уж ты не обессудь, покажи свою избу, как солдат на плацу.
– И чего это тебе в моей избе делать-примечать, разрешите узнать?
– Чего не найдем, того не возьмем. Наше дело – приказ выполнять, тебя, тетка, проверять, а твое дело – дверь отворить, нас пригласить.
Делать нечего, ввела их Агафья в дом, перевернули-переворошили там все солдатики вверх дном, только не нашли ничего приметного, товару запретного. На том и ушли-отбыли, обратно поплыли. Доложили губернатору по ранжиру: мол, так и так, ничегошеньки у Агафьи Дерюги не сыскали, лишь ворон распугали, народ насмешили, так спешили. Губернатор брови свел, парик белый поправил, табакерочку к носу приставил, на офицерика глянул-поглядел и так повелел:
– Устроить ночью засаду, всех подозрительных словить, в тюрьму посадить, утром мне доложить.
Поплелись солдатики в засаду по нижнему посаду, ус на ходу жуют, под ноги плюют, тетку Агафью ругают, ворон проклинают. Дошли до речки, ступили на мост в три дощечки, а вороны тут как тут, будто их ждут: налетели со всех сторон, словно весной гроза-гром, крыльями по головам солдат бьют, на всю округу орут. Осерчал офицерик, саблю выхватил, воздух рубит-частит, команду солдатикам кричит:
– В ружье! Готовсь! Пли! По тварям-чертовкам, лешего золовкам!
Солдатушки-ребятушки, бравые головушки, рады стараться, по воронам палят, зарядов не жалеючи, ловко да умеючи. И часа не прошло, как разогнали чертовок без всяких уловок. Дым над речкой висит, в ушах вороний грай стоит.
После того вороньего сраженья-баталии пропала Агафья-Дерюга, воронья подруга. Видать, в иные края подалась промышлять-ворожить, добрым людям головы кружить. Пропала навсегда, словно и не было никогда.
А раз налетела буря-ураган, повырвала деревья с корнем, на землю повалила-опрокинула, гнезда вороньи порушила. Глянь, а там добра всякого напрятано-сокрыто не одно корыто. Кто бы подумал, что воровской товар в вороньих гнездах лежал? Вот тебе и ворона, всем ворам оборона.
С тех пор и пошло-повелось речку ту прозывать по баталии – кар да дым, а по-нашему и вышло, Курдюмка – для ворья-ворон задумка. Так она подле горы до сих пор бежит, к Иртышу спешит. Выйди к ней вечерком, послушай ладком: о чем журчит, какие вести людям рассказать норовит.