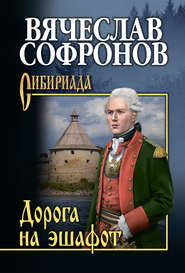По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сибирские сказания
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давай два! – они кричат, переправлять за рубль не хотят.
Приказчик тот малость заикался, а когда волновался, тогда совсем ничего не разберешь, слов не поймешь.
– Дал бы и пять, да где их взять! – он им с другого берега снова орет, а самого колотун уж бьет.
Паромщики про пять рублей как услыхали, ложки побросали и айда править-грести, чтоб путника позднего перевезти. Помогают ему телегу закатить, закрепить на носу, чуть не держат на весу.
Как до середины реки доплыли, добрались, спрашивать принялись:
– Ну, давай пять рублев, как обещал, когда нас подзывал.
А тот пыжится-силится ответить: мол, не так поняли, не то услыхали, а не может, одно шипение из него идет-выходит. Старшой паромщик осердился-обиделся, решил, верно, тот его дразнит-насмехается, да и врезал-вдарил со всей силы веслом по зубам, чтоб не орал по ночам. А приказчик оказался хиленький-слабенький, на ногах не устоял, за борт в воду упал, да там и пропал. Только чуть булькнуло-плесканулось, да все и успокоилось. Паромщики испугались, багры похватали, в воде искать-ловить начали, а ничего не нашли, не нашарили, видать, крепко тому вдарили.
К берегу пристали, а ушица на ум после утопленника и не идет, всех мужиков лихоманка бьет. Стали думать-гадать, чего им теперь делать.
– Лошадь с телегой цыганам продадим-сбудем, а про утопленника навсегда забудем, видеть его не видели, слыхать не слыхали, а все на берегу ушицу хлебали, – старшой паромщик говорит-предлагает, на остальных взглядывает.
Ну, делать нечего, как сговорились, так и согласились. На телегу заскочили, погнали цыган искать, им лошадь нечаянную продавать.
А тем временем приказчик из реки выплыл, на берег вылез. Пока плыл, сапоги и одежу с себя скинул. Вот и стоит гол, как осиновый кол. Паром на волне покачивается пустой, а лошади с телегой нигде нет, простыл и след. Чего ж тут делать-гадать, надо к дому поспешать. Выбрался приказчик на дорогу быстрехонько, скинул бельишко скорехонько, стал с нею мокроту выжимать, из ушей воду вытряхивать. Вдруг глядь. навстречу ему тарантас едет-правит, а в нем пьяный урядник сидит, сам с собой говорит, песни поет, беседу ведет. Увидал голого мужика на дороге, вожжи натянул, сам себя ущипнул:
– Кто будешь? Откуль идешь? Почему голышом, лишь с нательным крестом?
– С-с-с…в-в-в…о-о-о…ды-ы-ы… – сказать приказчик силится, заикается, объяснить старается.
А урядник в ответ:
– Ах, с воды?! Ну, так снова иди туды! – вожжами хлестанул-поддал, да и дальше погнал.
Приказчик осерчал-осердился, да и кинул ему вслед белье мокрое, а попал-угодил в огород соседний, лежит оно на грядке, как снег весенний.
Чертыхнулся, выругался, а делать нечего, надо белье обратно доставать, хоть мокрое одевать. Только через забор перелез, а тут пес злой, как бес, с цепи сорвался, приказчика кусать принялся, едва обратно тот перебрался, да так ногишом и помчался. Судьбу свою проклинает, стыдное место лопушком прикрывает. Ковылял-брел, едва до дома своего добрался-дошел. Стучится в окошечко тихонечко-легонечко. Жена его в окно выглянула, створку распахнула, а там – страх какой – стоит мужик синий-нагой, к ней руки тянет, чего-то шепчет. Ну, она от оконца отскочила, ногой половичок зацепила, да и упала, косицей о сундук ударилась-попала, на месте и померла. Муженек голый в окно взобрался, мертвую женку увидел, пуще прежнего испужался, на улицу выпрыгнул, за деревце руками ухватился, стоит не шевелится. Вдруг слышит, колокольчик побрякивает, колеса поскрипывают, глянул, а то лошадка его к нему бежит, домой спешит.
А паромщики как к цыганам поехали-погнали, то не сразу их отыскали. В таборе самом пусто-пустехонько, лишь один костерок горит, возле него молодая цыганка сидит.
– Где все есть? – ее спрашивают.
– Да в город пошли промышлять, еду добывать.
– Родичи твои нам по делу нужны, где они есть, покажи. Поехали скорехонько, найдем их быстрехонько.
Девка согласилась, на телегу взобралась, поехали шагом, благо город рядом. А лошадка, как дорогу к дому узнала-почуяла, изо всех сил побежала, возчиков не слушая. Вдруг откуда ни возьмись мужик голый-синий на них как бросится-кинется, мычит чего-то, руками машет. Паромщики народ суеверный-опасливый, утопленника своего признали, врассыпную побежали-кинулись. Одна цыганка в телеге и осталась, сидит, хоть до смерти испужалась.
Открыл приказчик ворота, лошадь завел, одежду на себя сухую сыскал, накинул, да и пошел соседей кликать-звать, чтоб жену в последний путь обмыть-собрать. Хозяин его, купец Серюков, на похороны страдальцу, ночному скитальцу, не скупясь, деньжат подбросил-подкинул, домишко на дальней заимке подарил-вырешил. Зря он, что ли, страдал, голым по городу скакал?
А цыганка молода, не будь плоха, с приказчиком жить осталась, на заимку с ним перебралась. Вот с тех пор на заимке серюковской и пошли все жители курчавые да чернявые, песни кричали-орали, коней чудных держали, рыбной ловлей промышляли. Вот и гляди: верить иль не верить в зайца да в сову, что будет несчастье на дому.
А паром речной под крутой горой все в том же месте плавает-шлындает, добрых людей с одного берега на другой перевозит, пока зима реку не заморозит. И рыбка на том месте вкусная-сладкая ловится, не переводится, уха из нее славная получается, так и зовется – ушица паромная, еда скоромная.
Про семинариста Платона Петухова и корову Пчелку
Все на свете мудрено, что вокруг нас сотворено. Мир что огород, всяк в нем вырастет. Небо – престол Бога, Земля – подножие. Там рыба-кит лежит, дрожмя дрожит, людей ворошит. Бог старый месяц на звезды крошит, ими небо метит-кропит, людям спать велит. Живет на свете каждый своим сроком, только одни – с толком, а иные – пополам с грехом, с гнилым нутром.
Жил-поживал, на обед щи хлебал семинарист тобольский Платон Петухов. Жил как все должно, не без грехов. В учениках хаживал без малого десяток годков, уже и бороденка кустится, а все никак не рукоположится. Готов идти хоть в звонари, лишь бы не зубрить от зари до зари.
Терпел-терпел Платон, маялся да однажды в бега ударился. И сам не понял, не сообразил, как это с ним случилось-вышло. Шел по городу, глянул, лошадь стоит, пьяный хозяин в трактире сидит. Вскочил в сани и погнал за город прямехонько-скорехонько, на тракт выехал, да так и шпарил, пока лошаденку не загнал, не запарил. Бросил ее, пешком двинул. Долго так шел-брел, пока сам не заморился, из сил выбился. Завернул в деревеньку небольшую, неприметную, постучался в первую избу, попросился переночевать подобру. И надо же так случиться, что у хозяина, Аверьяна Маклакова, мужика толкового, в гостях свояк сидит, самогоночку выпивает-пробует.
Посадили они и Платона Петухова рядом с собой, поднесли шкалик первый, за ним и другой, стали беглого семинариста пытать, кто такой с нестриженой башкой. А он с пьяных глаз возьми и скажи: мол, батюшка я, в свой приход пробираюсь-маюсь, недалечко обитаюсь.
Аверьян Маклаков еще шкалик налил-опрокинул, да и спрашивает:
– Вот ты, видать, человек ученый-знающий, все на свете понимающий, а сможешь ли загадку отгадать-угадать? Стоит длинню-ю-ю-щий мост на семь верст, а по конец моста – золотая верста.
Платон в затылке почесал, башкой помотал, но ничего не сказал. Начали тут Аверьян Маклаков со свояком вместе над ним хохотать, пальцами тыкать, рожи корчить.
– Эх ты, сколь лет учился-трудился, а до простой отгадки и не додумался. Выходит, зря тебя учили-мучили, не по чину рукоположили. Ведь отгадка простая, совсем не хитрая. То же Великий пост и Христово Воскресение! А ты чего подумал!
Обидно Платону стало, что над ним столько лет в семинарии учившимуся – одних штанов протер столько, что иному на всю жизнь хватит – тут простые мужики насмешничают, похохатывают.
– Ладно, по первой не в счет. Теперь вы мою загадку слушайте-отвечайте. Как родился, не крестился, Бога носил, умер – не покаялся.
– Так то лавка! – Аверьян первым вскричал, а свояк поддакнул.
– Разве лавка перед смертью кается? Дурни вы деревенские и есть дурни. Верно, Святое Писание и не открывали, про Вербное Воскресенье слыхом не слыхали. То осляти, на котором Христос в Иерусалим въезжал.
Аверьян со свояком согласились, по новой налили, выпили, крякнули.
– А почему ты думаешь, – Аверьян в Платона-семинариста пальцем указывает, – будто у скотины души нет? Она, может, и бессловесная, но душа должна иметься. Вот моя корова Пчелка такая-растакая умница-разумница… Все понимает. Иной бабе сто очков вперед даст.
– Ты там лишку-то не болтай, не мели, – жена из-за занавеси на мужа прикрикнула, – а то на Страшном суде спросится.
– Чья бы мычала, а твоя бы молчала. Бабья дорога – от печи до порога. – Аверьян ей в ответ без запинки метит. – Чего хочу, то и говорю.
– Нет души у животины. – Платон возражать начал, да забыл, о чем сказать хотел.
– А я говорю, есть! – Аверьян крепко на своем стоит, опять всем наливает, обносит. – Почему ей не быть? Душе-то?
– Чего ж не окрестишь Пчелку свою? – свояк слово вставил, себе винца добавил.
– Да вот как-то не дошли руки. А мы сейчас батюшку попросим окрестить Пчелку да крестное имя ей дать. Чего скажешь? – Аверьян за плечо Платона ухватился, к себе притянул. – Я и заплатить могу. Хошь, сапоги новые подарю? – Кинулся в горницу, сундук открыл, тащит к столу пару новеньких сапог хромовых.
Платон глянул, в самый раз сапоги.
– Дай померю, – просит, – а вдруг да не полезут. – Померил. Сидят на нем сапоги, как влитые, и сниматься не хотят, не желают.
Ладно, пошли в хлев все вместе, бабу в избе закрыли, чтоб криком народ не пугала, святому таинству не мешала. Аверьян со свояком крестными быть согласились, а Платон Петухов по полному канону окрестил коровенку, крестик на лбу нарисовал и новое имя ей дал – Пелагея.
Утром беглый семинарист дальше подался в новых сапогах. Побродил, покуролесил да в скором времени обратно в город возвернулся, сызнова за учебу принялся.
Приказчик тот малость заикался, а когда волновался, тогда совсем ничего не разберешь, слов не поймешь.
– Дал бы и пять, да где их взять! – он им с другого берега снова орет, а самого колотун уж бьет.
Паромщики про пять рублей как услыхали, ложки побросали и айда править-грести, чтоб путника позднего перевезти. Помогают ему телегу закатить, закрепить на носу, чуть не держат на весу.
Как до середины реки доплыли, добрались, спрашивать принялись:
– Ну, давай пять рублев, как обещал, когда нас подзывал.
А тот пыжится-силится ответить: мол, не так поняли, не то услыхали, а не может, одно шипение из него идет-выходит. Старшой паромщик осердился-обиделся, решил, верно, тот его дразнит-насмехается, да и врезал-вдарил со всей силы веслом по зубам, чтоб не орал по ночам. А приказчик оказался хиленький-слабенький, на ногах не устоял, за борт в воду упал, да там и пропал. Только чуть булькнуло-плесканулось, да все и успокоилось. Паромщики испугались, багры похватали, в воде искать-ловить начали, а ничего не нашли, не нашарили, видать, крепко тому вдарили.
К берегу пристали, а ушица на ум после утопленника и не идет, всех мужиков лихоманка бьет. Стали думать-гадать, чего им теперь делать.
– Лошадь с телегой цыганам продадим-сбудем, а про утопленника навсегда забудем, видеть его не видели, слыхать не слыхали, а все на берегу ушицу хлебали, – старшой паромщик говорит-предлагает, на остальных взглядывает.
Ну, делать нечего, как сговорились, так и согласились. На телегу заскочили, погнали цыган искать, им лошадь нечаянную продавать.
А тем временем приказчик из реки выплыл, на берег вылез. Пока плыл, сапоги и одежу с себя скинул. Вот и стоит гол, как осиновый кол. Паром на волне покачивается пустой, а лошади с телегой нигде нет, простыл и след. Чего ж тут делать-гадать, надо к дому поспешать. Выбрался приказчик на дорогу быстрехонько, скинул бельишко скорехонько, стал с нею мокроту выжимать, из ушей воду вытряхивать. Вдруг глядь. навстречу ему тарантас едет-правит, а в нем пьяный урядник сидит, сам с собой говорит, песни поет, беседу ведет. Увидал голого мужика на дороге, вожжи натянул, сам себя ущипнул:
– Кто будешь? Откуль идешь? Почему голышом, лишь с нательным крестом?
– С-с-с…в-в-в…о-о-о…ды-ы-ы… – сказать приказчик силится, заикается, объяснить старается.
А урядник в ответ:
– Ах, с воды?! Ну, так снова иди туды! – вожжами хлестанул-поддал, да и дальше погнал.
Приказчик осерчал-осердился, да и кинул ему вслед белье мокрое, а попал-угодил в огород соседний, лежит оно на грядке, как снег весенний.
Чертыхнулся, выругался, а делать нечего, надо белье обратно доставать, хоть мокрое одевать. Только через забор перелез, а тут пес злой, как бес, с цепи сорвался, приказчика кусать принялся, едва обратно тот перебрался, да так ногишом и помчался. Судьбу свою проклинает, стыдное место лопушком прикрывает. Ковылял-брел, едва до дома своего добрался-дошел. Стучится в окошечко тихонечко-легонечко. Жена его в окно выглянула, створку распахнула, а там – страх какой – стоит мужик синий-нагой, к ней руки тянет, чего-то шепчет. Ну, она от оконца отскочила, ногой половичок зацепила, да и упала, косицей о сундук ударилась-попала, на месте и померла. Муженек голый в окно взобрался, мертвую женку увидел, пуще прежнего испужался, на улицу выпрыгнул, за деревце руками ухватился, стоит не шевелится. Вдруг слышит, колокольчик побрякивает, колеса поскрипывают, глянул, а то лошадка его к нему бежит, домой спешит.
А паромщики как к цыганам поехали-погнали, то не сразу их отыскали. В таборе самом пусто-пустехонько, лишь один костерок горит, возле него молодая цыганка сидит.
– Где все есть? – ее спрашивают.
– Да в город пошли промышлять, еду добывать.
– Родичи твои нам по делу нужны, где они есть, покажи. Поехали скорехонько, найдем их быстрехонько.
Девка согласилась, на телегу взобралась, поехали шагом, благо город рядом. А лошадка, как дорогу к дому узнала-почуяла, изо всех сил побежала, возчиков не слушая. Вдруг откуда ни возьмись мужик голый-синий на них как бросится-кинется, мычит чего-то, руками машет. Паромщики народ суеверный-опасливый, утопленника своего признали, врассыпную побежали-кинулись. Одна цыганка в телеге и осталась, сидит, хоть до смерти испужалась.
Открыл приказчик ворота, лошадь завел, одежду на себя сухую сыскал, накинул, да и пошел соседей кликать-звать, чтоб жену в последний путь обмыть-собрать. Хозяин его, купец Серюков, на похороны страдальцу, ночному скитальцу, не скупясь, деньжат подбросил-подкинул, домишко на дальней заимке подарил-вырешил. Зря он, что ли, страдал, голым по городу скакал?
А цыганка молода, не будь плоха, с приказчиком жить осталась, на заимку с ним перебралась. Вот с тех пор на заимке серюковской и пошли все жители курчавые да чернявые, песни кричали-орали, коней чудных держали, рыбной ловлей промышляли. Вот и гляди: верить иль не верить в зайца да в сову, что будет несчастье на дому.
А паром речной под крутой горой все в том же месте плавает-шлындает, добрых людей с одного берега на другой перевозит, пока зима реку не заморозит. И рыбка на том месте вкусная-сладкая ловится, не переводится, уха из нее славная получается, так и зовется – ушица паромная, еда скоромная.
Про семинариста Платона Петухова и корову Пчелку
Все на свете мудрено, что вокруг нас сотворено. Мир что огород, всяк в нем вырастет. Небо – престол Бога, Земля – подножие. Там рыба-кит лежит, дрожмя дрожит, людей ворошит. Бог старый месяц на звезды крошит, ими небо метит-кропит, людям спать велит. Живет на свете каждый своим сроком, только одни – с толком, а иные – пополам с грехом, с гнилым нутром.
Жил-поживал, на обед щи хлебал семинарист тобольский Платон Петухов. Жил как все должно, не без грехов. В учениках хаживал без малого десяток годков, уже и бороденка кустится, а все никак не рукоположится. Готов идти хоть в звонари, лишь бы не зубрить от зари до зари.
Терпел-терпел Платон, маялся да однажды в бега ударился. И сам не понял, не сообразил, как это с ним случилось-вышло. Шел по городу, глянул, лошадь стоит, пьяный хозяин в трактире сидит. Вскочил в сани и погнал за город прямехонько-скорехонько, на тракт выехал, да так и шпарил, пока лошаденку не загнал, не запарил. Бросил ее, пешком двинул. Долго так шел-брел, пока сам не заморился, из сил выбился. Завернул в деревеньку небольшую, неприметную, постучался в первую избу, попросился переночевать подобру. И надо же так случиться, что у хозяина, Аверьяна Маклакова, мужика толкового, в гостях свояк сидит, самогоночку выпивает-пробует.
Посадили они и Платона Петухова рядом с собой, поднесли шкалик первый, за ним и другой, стали беглого семинариста пытать, кто такой с нестриженой башкой. А он с пьяных глаз возьми и скажи: мол, батюшка я, в свой приход пробираюсь-маюсь, недалечко обитаюсь.
Аверьян Маклаков еще шкалик налил-опрокинул, да и спрашивает:
– Вот ты, видать, человек ученый-знающий, все на свете понимающий, а сможешь ли загадку отгадать-угадать? Стоит длинню-ю-ю-щий мост на семь верст, а по конец моста – золотая верста.
Платон в затылке почесал, башкой помотал, но ничего не сказал. Начали тут Аверьян Маклаков со свояком вместе над ним хохотать, пальцами тыкать, рожи корчить.
– Эх ты, сколь лет учился-трудился, а до простой отгадки и не додумался. Выходит, зря тебя учили-мучили, не по чину рукоположили. Ведь отгадка простая, совсем не хитрая. То же Великий пост и Христово Воскресение! А ты чего подумал!
Обидно Платону стало, что над ним столько лет в семинарии учившимуся – одних штанов протер столько, что иному на всю жизнь хватит – тут простые мужики насмешничают, похохатывают.
– Ладно, по первой не в счет. Теперь вы мою загадку слушайте-отвечайте. Как родился, не крестился, Бога носил, умер – не покаялся.
– Так то лавка! – Аверьян первым вскричал, а свояк поддакнул.
– Разве лавка перед смертью кается? Дурни вы деревенские и есть дурни. Верно, Святое Писание и не открывали, про Вербное Воскресенье слыхом не слыхали. То осляти, на котором Христос в Иерусалим въезжал.
Аверьян со свояком согласились, по новой налили, выпили, крякнули.
– А почему ты думаешь, – Аверьян в Платона-семинариста пальцем указывает, – будто у скотины души нет? Она, может, и бессловесная, но душа должна иметься. Вот моя корова Пчелка такая-растакая умница-разумница… Все понимает. Иной бабе сто очков вперед даст.
– Ты там лишку-то не болтай, не мели, – жена из-за занавеси на мужа прикрикнула, – а то на Страшном суде спросится.
– Чья бы мычала, а твоя бы молчала. Бабья дорога – от печи до порога. – Аверьян ей в ответ без запинки метит. – Чего хочу, то и говорю.
– Нет души у животины. – Платон возражать начал, да забыл, о чем сказать хотел.
– А я говорю, есть! – Аверьян крепко на своем стоит, опять всем наливает, обносит. – Почему ей не быть? Душе-то?
– Чего ж не окрестишь Пчелку свою? – свояк слово вставил, себе винца добавил.
– Да вот как-то не дошли руки. А мы сейчас батюшку попросим окрестить Пчелку да крестное имя ей дать. Чего скажешь? – Аверьян за плечо Платона ухватился, к себе притянул. – Я и заплатить могу. Хошь, сапоги новые подарю? – Кинулся в горницу, сундук открыл, тащит к столу пару новеньких сапог хромовых.
Платон глянул, в самый раз сапоги.
– Дай померю, – просит, – а вдруг да не полезут. – Померил. Сидят на нем сапоги, как влитые, и сниматься не хотят, не желают.
Ладно, пошли в хлев все вместе, бабу в избе закрыли, чтоб криком народ не пугала, святому таинству не мешала. Аверьян со свояком крестными быть согласились, а Платон Петухов по полному канону окрестил коровенку, крестик на лбу нарисовал и новое имя ей дал – Пелагея.
Утром беглый семинарист дальше подался в новых сапогах. Побродил, покуролесил да в скором времени обратно в город возвернулся, сызнова за учебу принялся.