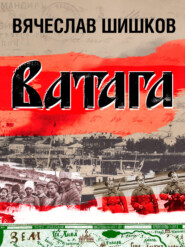По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Угрюм-река. Книга 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пошел вон, сукин сын!
Анфисе совсем не спится в эту ночь. Да и вчера не смыкались очи. Тяжко! Эх, коротка душа у ней, коротка душа у Прохора! Млад еще сокол, робок. Сокол, сокол, неужели улетишь, не поплачешь вместе? Нет, будь что будет, вот уснут все покрепче, пойдет к нему, ударит в окошко створчато: милый, выходи!
Лежит Илья Сохатых снаружи на Анфисином крыльце, он вложил свой ключ в скважину, чтоб Анфиса изнутри не отперла, лежит, мечтает, только бы Прохор укатил, упадет тогда Илья в ноги хозяину, заплачет: хозяин дорогой… так и так… желает он с Анфисой законным браком чтоб… Ох, и взъерепенится хозяин: «Мерзавец, стерва!» – может, в морду даст, потом скажет: «Женись, тварь!» У порядочных купцов завсегда бывает так.
Вдруг половицы заскрипели – у Илюхи ушки вверх – за дверью возня с ключом и голос:
– Кто ж это озорует?.. Заперли…
– Доброй ночи, Анфиса Петровна, бывшая мадам Козырева, а будущая – знаю чья… – сказал Илья Сохатых, полеживая в шубе у дверей. – Это, извините, мы… так сказать, – и вежливенько все-таки шапкой помахал.
За дверью смолкло все, как умерло.
На берегу озера полыхал большой костер. Рыба ловилась плохо. Луна серебрила тропинку на воде, избушка стояла под луной вся голубая. Милая избушка! Как тихо, грустно! Какой мрак висит в тайге.
Черкес плюнул и заругался вдруг:
– Кручок другой нада… Большой… Этим шайтан ловить… Цволачь! Трубка забыл…
Прохор едва поднял отяжелевшую голову свою, как черкес уже в седле.
– Дожидай! – крикнул он. – Трубка привезу. Кручок хороший привезу. Айда, айда! – гикнул и вытянул Казбека плетью.
«Вот это сила, – подумал про Ибрагима Прохор. – Да. Еще завтрашний день, а послезавтра в путь. Прощай, озеро, избушка; прощай, милая Анфиса! Мамашенька, прощай, прощай!» Какая все-таки тоска в душе! Припомнилась Угрюм-река и ночь та страшная, предсмертная. Зачем он едет? Погибать? Плыли смутные мечты, плыл над тайгой месяц. И сколько времени Прохор промечтал, не знает, – может, минуту, может, час.
Но филин еще не прокричал в тайге, как вырос перед ним черкес:
– На? трубка, кури… На? кручок… – И сел возле него.
В стороне храпели лошади и взмахивали хвостами, отбиваясь от ночных комаров.
– Давай, Прошка, спать. Мой здесь ляжет, твой избам.
– Я с тобой лягу, у костра… Там комары…
– Избам! – заорал черкес. – Мой комар выкурил избам… Дверь затворяй крепче… Айда! – и вдогонку крикнул: – Выбрасывай бурку мне. Избам… Пожалста!
Через минуту из избушки выскочил как сумасшедший Прохор с буркой и в радостном хохоте навалился на черкеса.
– Ибрагим! Ибрагимушка! Ибрагимушка! – катал его по земле и целовал в плешь, в лоб, в горбатый нос.
– Стой, ишак! Табак сыпал вон. Ишак!..
Бубукнул, загоготал вдруг филин. Спасибо тебе, ночная птица, пугач лесной. Прохор целовал свою Анфису, как ветер целует цветущий мак. Сидели рядом, очи в очи гляделись неотрывно. И оба, словно дети, плакали. От Анфисы пахло цветами и ночной росой:
– Черкес мчал меня на коне шибче ветра.
О чем же говорили они? Неизвестно. Ведь это ж юность с младостью, ведь это последняя хмельная ночь в лесу. Пусть хвои расскажут, как пили любовь до дна и не могли досыта упиться; пусть камыши запомнят и перешепчут ветру шепот их, пусть канюка-птица переймет их прощальный разговор.
– Вот и кончились быстрые деньки наши, мой сокол. Боюсь, боюсь…
– Да, Анфиса, душа моя… Кончились.
Дом Анфисы на пригорке, и заколоченная из-под сахара бочка скатилась прямо в крапиву, к кабаку. Ранним утром стояли возле бочки бабы, – тащились бабы за водой, а пьющий мужичонка вышибал из бочки дно.
– Хах! Господи Суси! – закрестились бабы, попятились.
– Сохатых! Ты?! – раскорячился пьяница-мужик и от изумления упал в крапиву.
– Пардон… Мирси… – хрипел Илья Петрович, лупоглазо вылезая из бочки, как филин из дупла. – Фу-у!.. Чуть не подох. Скажите, пожалуйста, какое недоразумение… Черт! Схватил это меня неизвестной наружности человек, морда тряпкой замотана, да и запхал сюда… А я в сонном виде… Ночь.
Илья Сохатых выкупался в речке и, как встрепанный, – домой.
– Представь себе, Ибрагим… Какой-то стервец вдруг меня головой в бочку, понимаешь? – ночью…
– Цволачь, – сочувственно обругался Ибрагим.
На другой день Прохор с Ибрагимом уехали на Угрюм-реку.
Прощай, Прохор Петрович! Счастливый тебе путь!
Часть третья
1
Земля несется возле солнца, как над горящей тайгой комар. Нет в пространстве ни столетий, ни тысячелетий. Но земля заключена сама в себя, как пленник; по ее поверхности из конца в начало плывет Угрюм-река, и каждый шаг земли по спирали времен вкруг солнца и вместе с солнцем знаменует для человека год.
Прошло три длинных человечьих года, прошло ничто. В конце третьего года примчалась от Прохора Петровича в село Медведеве телеграмма. Петр Данилыч и Марья Кирилловна! Радостная это телеграмма или роковая? Человеческим незрячим сердцем оба в один голос: радостная, да.
Но за эти три года Угрюм-река трижды сбрасывала с себя ледяную кору, за это время случилось вот что.
Прохор обосновал свой стан в среднем течении Угрюм-реки, чтоб ближе к людям. Но и для орлиных крыльев людское оседлое жилье отсюда не ближний свет.
Высокий правый берег. Кругом густые заросли тайги. Но вот зеленая долина, вся в цветах, в розовом шиповнике. У самой реки круглый холм, как опрокинутая чаша. Здесь будет стан.
– На вершине холма я построю высокую башню, – сказал Прохор. – Буду каждый день любоваться рекой, встречать свои пароходы. Гляди, какой красивый вид!
– Якши! – подтвердил Ибрагим.
Жили в палатке по-походному. Рыба, птица, ягоды с грибами. К осени шестеро плотников, среди них – Константин Фарков, выстроили небольшой, в пять окон, домик, игрушечную баню, склад для товаров и конюшню на два стойла. Возле дома на высоком столбе вывеска:
РЕЗИДЕНЦИЯ «ГРОМОВО»
ВЛАДЕЛЕЦ – КОММЕРСАНТ ПРОХОР ГРОМОВ
Черкес сделал себе из плетня род сакли, обмазал глиной, побелил и тоже на шесте:
ГАСПОДЫНЪ ЫБРАГЫМЪ ОГЪЛЫЪ ЦРУЛНАЪ
Анфисе совсем не спится в эту ночь. Да и вчера не смыкались очи. Тяжко! Эх, коротка душа у ней, коротка душа у Прохора! Млад еще сокол, робок. Сокол, сокол, неужели улетишь, не поплачешь вместе? Нет, будь что будет, вот уснут все покрепче, пойдет к нему, ударит в окошко створчато: милый, выходи!
Лежит Илья Сохатых снаружи на Анфисином крыльце, он вложил свой ключ в скважину, чтоб Анфиса изнутри не отперла, лежит, мечтает, только бы Прохор укатил, упадет тогда Илья в ноги хозяину, заплачет: хозяин дорогой… так и так… желает он с Анфисой законным браком чтоб… Ох, и взъерепенится хозяин: «Мерзавец, стерва!» – может, в морду даст, потом скажет: «Женись, тварь!» У порядочных купцов завсегда бывает так.
Вдруг половицы заскрипели – у Илюхи ушки вверх – за дверью возня с ключом и голос:
– Кто ж это озорует?.. Заперли…
– Доброй ночи, Анфиса Петровна, бывшая мадам Козырева, а будущая – знаю чья… – сказал Илья Сохатых, полеживая в шубе у дверей. – Это, извините, мы… так сказать, – и вежливенько все-таки шапкой помахал.
За дверью смолкло все, как умерло.
На берегу озера полыхал большой костер. Рыба ловилась плохо. Луна серебрила тропинку на воде, избушка стояла под луной вся голубая. Милая избушка! Как тихо, грустно! Какой мрак висит в тайге.
Черкес плюнул и заругался вдруг:
– Кручок другой нада… Большой… Этим шайтан ловить… Цволачь! Трубка забыл…
Прохор едва поднял отяжелевшую голову свою, как черкес уже в седле.
– Дожидай! – крикнул он. – Трубка привезу. Кручок хороший привезу. Айда, айда! – гикнул и вытянул Казбека плетью.
«Вот это сила, – подумал про Ибрагима Прохор. – Да. Еще завтрашний день, а послезавтра в путь. Прощай, озеро, избушка; прощай, милая Анфиса! Мамашенька, прощай, прощай!» Какая все-таки тоска в душе! Припомнилась Угрюм-река и ночь та страшная, предсмертная. Зачем он едет? Погибать? Плыли смутные мечты, плыл над тайгой месяц. И сколько времени Прохор промечтал, не знает, – может, минуту, может, час.
Но филин еще не прокричал в тайге, как вырос перед ним черкес:
– На? трубка, кури… На? кручок… – И сел возле него.
В стороне храпели лошади и взмахивали хвостами, отбиваясь от ночных комаров.
– Давай, Прошка, спать. Мой здесь ляжет, твой избам.
– Я с тобой лягу, у костра… Там комары…
– Избам! – заорал черкес. – Мой комар выкурил избам… Дверь затворяй крепче… Айда! – и вдогонку крикнул: – Выбрасывай бурку мне. Избам… Пожалста!
Через минуту из избушки выскочил как сумасшедший Прохор с буркой и в радостном хохоте навалился на черкеса.
– Ибрагим! Ибрагимушка! Ибрагимушка! – катал его по земле и целовал в плешь, в лоб, в горбатый нос.
– Стой, ишак! Табак сыпал вон. Ишак!..
Бубукнул, загоготал вдруг филин. Спасибо тебе, ночная птица, пугач лесной. Прохор целовал свою Анфису, как ветер целует цветущий мак. Сидели рядом, очи в очи гляделись неотрывно. И оба, словно дети, плакали. От Анфисы пахло цветами и ночной росой:
– Черкес мчал меня на коне шибче ветра.
О чем же говорили они? Неизвестно. Ведь это ж юность с младостью, ведь это последняя хмельная ночь в лесу. Пусть хвои расскажут, как пили любовь до дна и не могли досыта упиться; пусть камыши запомнят и перешепчут ветру шепот их, пусть канюка-птица переймет их прощальный разговор.
– Вот и кончились быстрые деньки наши, мой сокол. Боюсь, боюсь…
– Да, Анфиса, душа моя… Кончились.
Дом Анфисы на пригорке, и заколоченная из-под сахара бочка скатилась прямо в крапиву, к кабаку. Ранним утром стояли возле бочки бабы, – тащились бабы за водой, а пьющий мужичонка вышибал из бочки дно.
– Хах! Господи Суси! – закрестились бабы, попятились.
– Сохатых! Ты?! – раскорячился пьяница-мужик и от изумления упал в крапиву.
– Пардон… Мирси… – хрипел Илья Петрович, лупоглазо вылезая из бочки, как филин из дупла. – Фу-у!.. Чуть не подох. Скажите, пожалуйста, какое недоразумение… Черт! Схватил это меня неизвестной наружности человек, морда тряпкой замотана, да и запхал сюда… А я в сонном виде… Ночь.
Илья Сохатых выкупался в речке и, как встрепанный, – домой.
– Представь себе, Ибрагим… Какой-то стервец вдруг меня головой в бочку, понимаешь? – ночью…
– Цволачь, – сочувственно обругался Ибрагим.
На другой день Прохор с Ибрагимом уехали на Угрюм-реку.
Прощай, Прохор Петрович! Счастливый тебе путь!
Часть третья
1
Земля несется возле солнца, как над горящей тайгой комар. Нет в пространстве ни столетий, ни тысячелетий. Но земля заключена сама в себя, как пленник; по ее поверхности из конца в начало плывет Угрюм-река, и каждый шаг земли по спирали времен вкруг солнца и вместе с солнцем знаменует для человека год.
Прошло три длинных человечьих года, прошло ничто. В конце третьего года примчалась от Прохора Петровича в село Медведеве телеграмма. Петр Данилыч и Марья Кирилловна! Радостная это телеграмма или роковая? Человеческим незрячим сердцем оба в один голос: радостная, да.
Но за эти три года Угрюм-река трижды сбрасывала с себя ледяную кору, за это время случилось вот что.
Прохор обосновал свой стан в среднем течении Угрюм-реки, чтоб ближе к людям. Но и для орлиных крыльев людское оседлое жилье отсюда не ближний свет.
Высокий правый берег. Кругом густые заросли тайги. Но вот зеленая долина, вся в цветах, в розовом шиповнике. У самой реки круглый холм, как опрокинутая чаша. Здесь будет стан.
– На вершине холма я построю высокую башню, – сказал Прохор. – Буду каждый день любоваться рекой, встречать свои пароходы. Гляди, какой красивый вид!
– Якши! – подтвердил Ибрагим.
Жили в палатке по-походному. Рыба, птица, ягоды с грибами. К осени шестеро плотников, среди них – Константин Фарков, выстроили небольшой, в пять окон, домик, игрушечную баню, склад для товаров и конюшню на два стойла. Возле дома на высоком столбе вывеска:
РЕЗИДЕНЦИЯ «ГРОМОВО»
ВЛАДЕЛЕЦ – КОММЕРСАНТ ПРОХОР ГРОМОВ
Черкес сделал себе из плетня род сакли, обмазал глиной, побелил и тоже на шесте:
ГАСПОДЫНЪ ЫБРАГЫМЪ ОГЪЛЫЪ ЦРУЛНАЪ