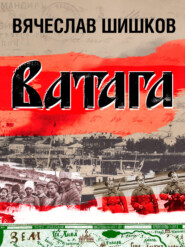По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Емельян Пугачев. Книга вторая
Серия
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пошто он тебе? Какая еще нуждица? – перебил его Пугачев, одетый в простой казачий чекмень.
– А уж это не твоего ума дело, – переступил с ноги на ногу верзила.
И едва успел он рот раскрыть, как три ражих казака, выскочив из-под ярового берега, разом сшибли его с ног.
Тяжело подымаясь с земли, он поливал сваливших его казаков отборной руганью и с неприязнью косился на Шигаева.
– Ой, батюшки-светы! – вдруг вскричал Шигаев. – Хлопуша, да неужто это ты?
– Я самый, – задышливо проговорил Хлопуша; в груди его хрипло. – А это ты, никак! Здравствуй, Максим Григорьич.
Пугачев с ног до головы окинул оборванца суровым взглядом и насупил брови.
– Ты что за человек? Откуда? – спросил Пугачев.
– Да вот он знает меня, кто я таков, – ответил Хлопуша и тряхнул локтями, желая освободиться от крепких казачьих рук, державших его.
– Ваше величество, это – Хлопуша, я его знаю. Он человек бедный, порядочный. Мы с ним вместе в оренбургском остроге сидели. Я, ваше величество, осужден был по казачьему бунту, – сказал Шигаев, сняв шапку и покашливая. – Ребята, не держите его.
Хлопуша, поняв, что перед ним сам Пугачев, тоже стащил с головы шапку, кой-как кивнул ему и, ухмыляясь в бороду, сказал:
– К тебе я.
– По какому делу? Служить мне хочешь аль убить подослан?
Хлопуша молчал. Он стоял теперь в окружении набежавших казаков. Они не спускали глаз с широкоплечего детины.
– Отвечай, – строго повторил Пугачев. – Кем подослан? По какому делу?
– А вот по какому, – ответил Хлопуша, неспокойно моргая глазами, и, порывшись за пазухой, вытащил четыре пакета. – Один тебе, а три казакам велено. Сам губернатор приказал. Только перепутал я их… Да уж бери все, мне не жалко! – Прикрякнув, он протянул пакеты Пугачеву.
Пугачев повертел их перед глазами и, не распечатывая, велел отнести к себе в палатку.
В это время из-за бугра вымахнул всадник. Остановившись, он обернул коня назад, кому-то замахал шапкой и закричал пронзительно и тонко:
– Али-ля!.. Здеся бачка-осударь? Адя-адя!..
И вот перед Пугачевым – нанизанные на общий аркан четыре связанных по рукам человека. Их поймали на дороге каргалинские татары. Пугачев стоял в окружении приближенных. Он спросил пленников:
– Кто вы такие?
Тогда все четверо повалились на колени.
Старик Пустобаев, сдерживая гулкий бас, в волнении проговорил:
– А послал нас, твое царское здоровье, наш полковник Симонов из Яицкой крепости в Оренбург с бумагами. Вот и бумаги… Уж не прогневайся, – и огромный старик достал из сумки большой пакет.
– Поди прими, – приказал Пугачев сержанту Николаеву.
Сержанта бросило в испарину. Он хорошо знал этого услужливого старика, и молодому человеку вдруг стало до боли стыдно взглянуть в глаза его. Он подскочил к нему и быстро выхватил из его рук бумагу.
– Знаешь ли ты, дед, кто перед тобой стоит? – спросил Пугачев и подбоченился.
Долгобородый, богатырски сложенный Пустобаев взглянул на Пугачева мутными, будто пьяными глазами и громогласно сказал:
– А откуда ж мне было знать-то, батюшка?.. Мы люди подначальные. А начальство нам все уши прожужжало: Пугачев да Пугачев…
– Совести в тебе нет, старик, – сказал Пугачев. – Начальству веришь, а народу, что за царем идет, не веришь.
– А вот теперича я, хоть и стар, а вижу: как есть государь ты, ваше величество… Я, пожалуй, в согласье… того… послужить тебе.
– Пошто же ты раньше вольной волей не пришел к моему царскому имени? Ведь ты только тогда пришел и царем признал меня, когда на аркане тебя привели…
– Винюсь, батюшка… Маху дал, – сказал старик, и большая борода его затряслась.
– Ну, так повесить всех четырех, – приказал Пугачев. – Пускай восчувствуют, как мимо меня в Оренбург гулять. Вздернуть!
Шигаев и другие степенные яицкие казаки стали упрашивать Пугачева помиловать старика Пустобаева и молодого мальчишку, яицкого казака Мизинова.
– Пустобаев, ваше величество, невзирая, что стар, а начальство чинами не жалует его, по сей день в рядовых он, – сказал Шигаев, помахивая ладонью по своей надвое расчесанной бороде. – Как бунт был, старик-то войсковую нашу руку держал.
– Помилуй, батюшка! – гаркнул Пустобаев и пристукнул себя кулачищем в грудь. – Служить буду верою-правдою.
От его трубного голоса у Пугачева зазвенело в ушах. И все ласково воззрились на поднявшегося огромного, как матерый медведь, деда. Сердитые глаза Пугачева улыбнулись.
– А тебе, малец, сколько лет? – спросил он Мизинова.
– Это мне-та? – со страху кривя рот и подергиваясь, проговорил Мизинов. – Мне в Покров семнадцать сполнилось. Лета мои не вышли еще, а вот Симонов… это самое… как его… забрал меня в казаки.
– Ну, ладно, молодой ты. С тебя и взыску нет. Живи! И ты, старик, здоров будь. Идите с богом. Николаев, проводи их. Накормить, напоить вдосыт! И коней вернуть. Ну да уж и вас двоих милую. Идите все четверо. А где этот… ноздри рваны у которого?
– Я здеся-ка, – нехотя выдвинулся из толпы Хлопуша. Он возвышался над всеми на целую голову.
– Взять его под караул. Опосля сам вызову его. Покрепче подумай, с каким умыслом шел ко мне, – обернулся к Хлопуше Пугачев. – Не оправдаешься – не взыщи, только ты и свету видел. Почиталин! Пойдем-ка разберемся в бумагах, что от Рейнсдорпа с ним присланы.
2
Юный, голубоглазый, похожий на девушку Мизинов, как только услышал себе помилование, враз залился обильными слезами.
– Что, дурачок, воешь? – гукает старик Пустобаев. – Радоваться должон.
– Я и то радуюсь, – хлюпает Мизинов, и уже облегчающий смех охватывает его. – Ой, да и напужался я… Вот страх, вот страх-то…
Пустобаев вышептывал шагающему рядом с ним Николаеву:
– Да, Митрий Павлыч, а мы все думали, что тебя в живых нетути. Барышня Дарья Кузьминишна извелась вся по тебе… Стой-ка, стой-ка, – старик порылся за пазухой и, вытащив, передал Николаеву маленький за печатью пакет. – Не дозрили, не отобрали.
Николаев вглядывался в письмо, в ласковые любезные сердцу девичьи слова. Руки его дрожали, и дрожал в них голубой бумажный листок.
– А уж это не твоего ума дело, – переступил с ноги на ногу верзила.
И едва успел он рот раскрыть, как три ражих казака, выскочив из-под ярового берега, разом сшибли его с ног.
Тяжело подымаясь с земли, он поливал сваливших его казаков отборной руганью и с неприязнью косился на Шигаева.
– Ой, батюшки-светы! – вдруг вскричал Шигаев. – Хлопуша, да неужто это ты?
– Я самый, – задышливо проговорил Хлопуша; в груди его хрипло. – А это ты, никак! Здравствуй, Максим Григорьич.
Пугачев с ног до головы окинул оборванца суровым взглядом и насупил брови.
– Ты что за человек? Откуда? – спросил Пугачев.
– Да вот он знает меня, кто я таков, – ответил Хлопуша и тряхнул локтями, желая освободиться от крепких казачьих рук, державших его.
– Ваше величество, это – Хлопуша, я его знаю. Он человек бедный, порядочный. Мы с ним вместе в оренбургском остроге сидели. Я, ваше величество, осужден был по казачьему бунту, – сказал Шигаев, сняв шапку и покашливая. – Ребята, не держите его.
Хлопуша, поняв, что перед ним сам Пугачев, тоже стащил с головы шапку, кой-как кивнул ему и, ухмыляясь в бороду, сказал:
– К тебе я.
– По какому делу? Служить мне хочешь аль убить подослан?
Хлопуша молчал. Он стоял теперь в окружении набежавших казаков. Они не спускали глаз с широкоплечего детины.
– Отвечай, – строго повторил Пугачев. – Кем подослан? По какому делу?
– А вот по какому, – ответил Хлопуша, неспокойно моргая глазами, и, порывшись за пазухой, вытащил четыре пакета. – Один тебе, а три казакам велено. Сам губернатор приказал. Только перепутал я их… Да уж бери все, мне не жалко! – Прикрякнув, он протянул пакеты Пугачеву.
Пугачев повертел их перед глазами и, не распечатывая, велел отнести к себе в палатку.
В это время из-за бугра вымахнул всадник. Остановившись, он обернул коня назад, кому-то замахал шапкой и закричал пронзительно и тонко:
– Али-ля!.. Здеся бачка-осударь? Адя-адя!..
И вот перед Пугачевым – нанизанные на общий аркан четыре связанных по рукам человека. Их поймали на дороге каргалинские татары. Пугачев стоял в окружении приближенных. Он спросил пленников:
– Кто вы такие?
Тогда все четверо повалились на колени.
Старик Пустобаев, сдерживая гулкий бас, в волнении проговорил:
– А послал нас, твое царское здоровье, наш полковник Симонов из Яицкой крепости в Оренбург с бумагами. Вот и бумаги… Уж не прогневайся, – и огромный старик достал из сумки большой пакет.
– Поди прими, – приказал Пугачев сержанту Николаеву.
Сержанта бросило в испарину. Он хорошо знал этого услужливого старика, и молодому человеку вдруг стало до боли стыдно взглянуть в глаза его. Он подскочил к нему и быстро выхватил из его рук бумагу.
– Знаешь ли ты, дед, кто перед тобой стоит? – спросил Пугачев и подбоченился.
Долгобородый, богатырски сложенный Пустобаев взглянул на Пугачева мутными, будто пьяными глазами и громогласно сказал:
– А откуда ж мне было знать-то, батюшка?.. Мы люди подначальные. А начальство нам все уши прожужжало: Пугачев да Пугачев…
– Совести в тебе нет, старик, – сказал Пугачев. – Начальству веришь, а народу, что за царем идет, не веришь.
– А вот теперича я, хоть и стар, а вижу: как есть государь ты, ваше величество… Я, пожалуй, в согласье… того… послужить тебе.
– Пошто же ты раньше вольной волей не пришел к моему царскому имени? Ведь ты только тогда пришел и царем признал меня, когда на аркане тебя привели…
– Винюсь, батюшка… Маху дал, – сказал старик, и большая борода его затряслась.
– Ну, так повесить всех четырех, – приказал Пугачев. – Пускай восчувствуют, как мимо меня в Оренбург гулять. Вздернуть!
Шигаев и другие степенные яицкие казаки стали упрашивать Пугачева помиловать старика Пустобаева и молодого мальчишку, яицкого казака Мизинова.
– Пустобаев, ваше величество, невзирая, что стар, а начальство чинами не жалует его, по сей день в рядовых он, – сказал Шигаев, помахивая ладонью по своей надвое расчесанной бороде. – Как бунт был, старик-то войсковую нашу руку держал.
– Помилуй, батюшка! – гаркнул Пустобаев и пристукнул себя кулачищем в грудь. – Служить буду верою-правдою.
От его трубного голоса у Пугачева зазвенело в ушах. И все ласково воззрились на поднявшегося огромного, как матерый медведь, деда. Сердитые глаза Пугачева улыбнулись.
– А тебе, малец, сколько лет? – спросил он Мизинова.
– Это мне-та? – со страху кривя рот и подергиваясь, проговорил Мизинов. – Мне в Покров семнадцать сполнилось. Лета мои не вышли еще, а вот Симонов… это самое… как его… забрал меня в казаки.
– Ну, ладно, молодой ты. С тебя и взыску нет. Живи! И ты, старик, здоров будь. Идите с богом. Николаев, проводи их. Накормить, напоить вдосыт! И коней вернуть. Ну да уж и вас двоих милую. Идите все четверо. А где этот… ноздри рваны у которого?
– Я здеся-ка, – нехотя выдвинулся из толпы Хлопуша. Он возвышался над всеми на целую голову.
– Взять его под караул. Опосля сам вызову его. Покрепче подумай, с каким умыслом шел ко мне, – обернулся к Хлопуше Пугачев. – Не оправдаешься – не взыщи, только ты и свету видел. Почиталин! Пойдем-ка разберемся в бумагах, что от Рейнсдорпа с ним присланы.
2
Юный, голубоглазый, похожий на девушку Мизинов, как только услышал себе помилование, враз залился обильными слезами.
– Что, дурачок, воешь? – гукает старик Пустобаев. – Радоваться должон.
– Я и то радуюсь, – хлюпает Мизинов, и уже облегчающий смех охватывает его. – Ой, да и напужался я… Вот страх, вот страх-то…
Пустобаев вышептывал шагающему рядом с ним Николаеву:
– Да, Митрий Павлыч, а мы все думали, что тебя в живых нетути. Барышня Дарья Кузьминишна извелась вся по тебе… Стой-ка, стой-ка, – старик порылся за пазухой и, вытащив, передал Николаеву маленький за печатью пакет. – Не дозрили, не отобрали.
Николаев вглядывался в письмо, в ласковые любезные сердцу девичьи слова. Руки его дрожали, и дрожал в них голубой бумажный листок.