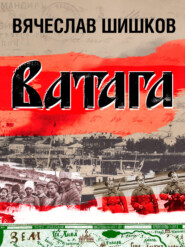По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Емельян Пугачев. Книга вторая
Серия
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну сказывай, сказывай скорей, где, когда?
Девушка сидела возле предзеркального столика. Устинья, пощелкивая орехи, стала не спеша рассказывать, как она недавно гостила у тетки в Илецком городке и как в это самое время городок передался без боя толпе мятежников.
– Вот тут-то, в толпе-то этой, я и усмотрела сержантика-то твоего…
– Ой, да очнись, Устинья! Что ты, в какой толпе?
– Да в той самой, вот в какой… Худой да длинный, а волосы-то по-казачьи острижены, косу-то ему обкорнали, и одет-то он по-казачьи, не вдруг признаешь…
– Господи, да как же он попал-то? – заметалась, всполошилась Даша. – Да говорила ли ты с ним?
– Да и не подумала говорить. Он рыло отворотил от меня – да ходу! Должно, чует, что совесть не чиста.
Дашенька вынула из-за пояса носовой платок, собираясь заплакать. Устинья, спохватившись, затараторила:
– Да ты, подружка, не тужи… Он и сам, поди, не рад… Я все узнала. Он в полон попал. Казаки ладили повесить его, да сам батюшка помиловал. Вот он и остался служить ему, батюшке-т, в петлю-то не больно сладко лезть, до кого хошь доведись… Да мы твоего дружка выручим, подруженька, не горюй, ягодка моя… Вызволим!
Даша заплакала. Устинья опустилась возле нее на колени, обвила ее за шею сильными руками.
– Ой, Митенька, Митенька, – заливалась слезами Даша. – Ну кто, кто станет выручать?
– Да мы с тобой, вот кто… Я батюшке песни пела, да плясала, – батюшка мне пять рубликов пожаловал. Вот и поедем к нему. Уж я батюшку-т упрошу, укланяю.
– Какой это батюшка, что за батюшка такой? – насторожилась Даша, перестала плакать и осторожно сняла со своих похолодевших плеч теплые руки Устиньи.
Казачка поднялась с полу и, придвинув стул, села колени в колени с Дашей.
– Слушай, – зашептала она, озираясь на дверь. – Батюшка – доподлинный царь-государь… Вот кто такой батюшка.
– Этот душегубец-то? Побойся ты, Устинья, бога! – воскликнула Даша, губы ее задергались.
– Да не шуми ты! – сдвинув брови, загрозилась Устинья. – Не ровен час, полковник Симонов нагрянет, папаша нареченный твой. – И снова зашептала: – Только ты, подруженька, молчок, никому не брякай. А я тебе вот что… Сам Иван Александрович Творогов его за государя признал, а уж он казак умнющий да богатый.
– Стало, он умен, твой Творогов, а все остальные дураки – и папенька, и Крылов, и губернатор… Вот какое, девка, у тебя понятие… Да ты с ума сошла, чего ли? Разбойника, душегуба за царя принять! Да истинный-то Петр Федорыч одиннадцать лет тому назад умер. Про это и в книгах пропечатано. Что же он, из могилы, чего ли, встал?
– Откуда мне знать, – с сердцем проговорила Устинья. – В народе говорят – похоронили подставного, а доподлинный-то государь в сокрытие ушел.
– Эх ты, дура-дура! – потряхивая головой, укоризненно сказала Даша.
Устинья встала, накинула на голову полушалок, проговорила охрипшим от возбуждения голосом:
– Да мне что? Плевала я! Не мой суженый. Ну и сиди… Прощай!
Глава IX
Каторжник Хлопуша
Фатьма рушит закон
Бачку-осударя торжественно несут на кресле
1
Ночной осмотр крепости был губернатором отменен до следующего дня. Крепость давным-давно не ремонтировалась, хотя деньги на ее благоустройство ежегодно из Петербурга получались.
Правительство имело полное основание полагать, что Оренбургская крепость, сооружавшаяся одиннадцать лет инженерными генералами, снабженная семьюдесятью орудиями и всем необходимым, представляет собою необоримую твердыню. На самом же деле все укрепление состояло из земляного вала с десятью бастионами и двумя полубастионами, примыкавшими к обрывистому правому берегу реки Яика. Между бастионами – четыре выхода из города. Одеты камнем были только два бастиона, на остальных не завершены были даже земляные работы.
Окружавшие город рвы заросли бурьяном. Обыватели свозили сюда ободранные туши дохлых лошадей, битые горшки, бутылки, щепки, всякий дрызг. Через ров в любом месте ездили на телегах, и лишь в немногих местах, где откосы взяты в камень, было невозможно пробраться из крепости в город. Бревенчатый частокол вдоль вала и ограждающие ров рогатки отсутствовали. Крепостные ворота затворов не имели.
Губернатор хватался за голову, с отчаяньем выкрикивал:
– Всех, всех суду предать!
Но окружавшие его начальствующие лица и некоторые штаб-офицеры утешались тем, что в первую голову предавать суду пришлось бы губернатору себя.
Было сделано распоряжение: немедленно приступить к углублению рва и проведению всех необходимых крепостных работ силами гарнизона, сидевших в тюрьме каторжан и всех способных к труду местных жителей. Работать день и ночь. Уклоняющихся и нерадивых наказывать тут же, на месте.
Вскоре закипела работа. Появились тысячи тележных подвод. С ночи по всему фронту работ зажглись костры. Слышались крики, ругань, понуканье, скрип немазаных колес. По улицам города, через осеннюю тьму, сновали люди с фонарями, плелись, позвякивая кандалами, каторжники, скакали курьеры, вышагивали, гордо подняв голову, верблюды с поклажей на горбах.
Столь внезапно поднявшаяся суматоха напугала жителей и породила многие толки. В народе стали поговаривать, что Емельян Пугачев, которого начальство всячески стремится опорочить, совсем даже не простой казак, а «другого состояния».
У костров, как только отвернутся капралы с понукалами, сходятся нос к носу люди.
– Ну, как, братухи, неужто это и впрямь Петр III к нам шествует? – раскуривая от уголька трубку, шепчет бородач с подбитым глазом.
– Он, он, – враз отзываются козьи бородки, длинные носы, сутулые спины. – Самоглавнейше – он… Он, батюшка, жив-живехонек, из Питера-т скрыться успел…
– Вре-о-о…
– Правда-истина… – шамкает беззубый коренастый старичок, подвязанный по ушам пестреньким платочком. – У меня в землянке намеднись казак с его стану ночевал. Ну-к он все обсказывал, казак-то. У него, брат, войсков – уйма. И пушек сколь хошь… Попы навстречь выходят с образами…
– Я тебе дам, старый черт, попы! – выплывает из тьмы на свет костра капрал и трясет нагайкой. – Ррразойдись!
Подобные разговоры который уж день носятся по городу, будоражат жителей. Начальству известно, что пугачевцы подослали в Оренбург своих головорезов-возмутителей, начальство из кожи лезет, чтоб поймать их, но они неуловимы.
Чтоб положить конец всяким вздорным кривотолкам, Рейнсдорп измыслил составить воззвание к жителям и огласить оную публикацию в воскресенье, 30 сентября, во всех семи церквах.
Каменный, с золотыми куполами, Введенский собор до отказу набит молящимися. После обедни на амвон вышел курчавый, губастый дьякон. Он положил на аналой бумагу, обвернул концом парчового ораря указательный перст, перекрестился и отверз уста:
«По указу ее императорского величества, из Оренбургской губернской канцелярии публикация».
Народ всколыхнулся, вытянул шеи, замер.
– «Известно учинилось, что о злодействующем с Яицкой стороны в здешних обывателях, по легкомыслию некоторых разгласителей, носится слух, якобы он другого состояния, нежели как есть. Но он, злодействующий, в самом деле беглый казак Емельян Пугачев, который за его злодейства… – тут дьякон загрохотал на весь собор, – наказан кнутом, с наставлением на лице его знаков, но чтоб он в том познан не был, для того пред приверженцами своими никогда шапки не снимает. (По народу прошел вздох изумления.) Почему некоторые из здешних, бывших у него в руках, самовидцы, из которых один, солдат Демид Куликов, вчера выбежавший, точно засвидетельствовать может…»
И вдруг из густой толпы молящихся резкий тенористый выкрик:
– Ври, дьякон, да не завирайся! Лицо у батюшки-царя чистое, почище, чем у тебя, дьякон, и ноздри целы! А как батюшка прикладывается к святым иконам, шапочку завсегда снимает… Эх, ты, брехало! А вы, миряне, принимайте батюшку без сумления. Он доподлинный царь!
Девушка сидела возле предзеркального столика. Устинья, пощелкивая орехи, стала не спеша рассказывать, как она недавно гостила у тетки в Илецком городке и как в это самое время городок передался без боя толпе мятежников.
– Вот тут-то, в толпе-то этой, я и усмотрела сержантика-то твоего…
– Ой, да очнись, Устинья! Что ты, в какой толпе?
– Да в той самой, вот в какой… Худой да длинный, а волосы-то по-казачьи острижены, косу-то ему обкорнали, и одет-то он по-казачьи, не вдруг признаешь…
– Господи, да как же он попал-то? – заметалась, всполошилась Даша. – Да говорила ли ты с ним?
– Да и не подумала говорить. Он рыло отворотил от меня – да ходу! Должно, чует, что совесть не чиста.
Дашенька вынула из-за пояса носовой платок, собираясь заплакать. Устинья, спохватившись, затараторила:
– Да ты, подружка, не тужи… Он и сам, поди, не рад… Я все узнала. Он в полон попал. Казаки ладили повесить его, да сам батюшка помиловал. Вот он и остался служить ему, батюшке-т, в петлю-то не больно сладко лезть, до кого хошь доведись… Да мы твоего дружка выручим, подруженька, не горюй, ягодка моя… Вызволим!
Даша заплакала. Устинья опустилась возле нее на колени, обвила ее за шею сильными руками.
– Ой, Митенька, Митенька, – заливалась слезами Даша. – Ну кто, кто станет выручать?
– Да мы с тобой, вот кто… Я батюшке песни пела, да плясала, – батюшка мне пять рубликов пожаловал. Вот и поедем к нему. Уж я батюшку-т упрошу, укланяю.
– Какой это батюшка, что за батюшка такой? – насторожилась Даша, перестала плакать и осторожно сняла со своих похолодевших плеч теплые руки Устиньи.
Казачка поднялась с полу и, придвинув стул, села колени в колени с Дашей.
– Слушай, – зашептала она, озираясь на дверь. – Батюшка – доподлинный царь-государь… Вот кто такой батюшка.
– Этот душегубец-то? Побойся ты, Устинья, бога! – воскликнула Даша, губы ее задергались.
– Да не шуми ты! – сдвинув брови, загрозилась Устинья. – Не ровен час, полковник Симонов нагрянет, папаша нареченный твой. – И снова зашептала: – Только ты, подруженька, молчок, никому не брякай. А я тебе вот что… Сам Иван Александрович Творогов его за государя признал, а уж он казак умнющий да богатый.
– Стало, он умен, твой Творогов, а все остальные дураки – и папенька, и Крылов, и губернатор… Вот какое, девка, у тебя понятие… Да ты с ума сошла, чего ли? Разбойника, душегуба за царя принять! Да истинный-то Петр Федорыч одиннадцать лет тому назад умер. Про это и в книгах пропечатано. Что же он, из могилы, чего ли, встал?
– Откуда мне знать, – с сердцем проговорила Устинья. – В народе говорят – похоронили подставного, а доподлинный-то государь в сокрытие ушел.
– Эх ты, дура-дура! – потряхивая головой, укоризненно сказала Даша.
Устинья встала, накинула на голову полушалок, проговорила охрипшим от возбуждения голосом:
– Да мне что? Плевала я! Не мой суженый. Ну и сиди… Прощай!
Глава IX
Каторжник Хлопуша
Фатьма рушит закон
Бачку-осударя торжественно несут на кресле
1
Ночной осмотр крепости был губернатором отменен до следующего дня. Крепость давным-давно не ремонтировалась, хотя деньги на ее благоустройство ежегодно из Петербурга получались.
Правительство имело полное основание полагать, что Оренбургская крепость, сооружавшаяся одиннадцать лет инженерными генералами, снабженная семьюдесятью орудиями и всем необходимым, представляет собою необоримую твердыню. На самом же деле все укрепление состояло из земляного вала с десятью бастионами и двумя полубастионами, примыкавшими к обрывистому правому берегу реки Яика. Между бастионами – четыре выхода из города. Одеты камнем были только два бастиона, на остальных не завершены были даже земляные работы.
Окружавшие город рвы заросли бурьяном. Обыватели свозили сюда ободранные туши дохлых лошадей, битые горшки, бутылки, щепки, всякий дрызг. Через ров в любом месте ездили на телегах, и лишь в немногих местах, где откосы взяты в камень, было невозможно пробраться из крепости в город. Бревенчатый частокол вдоль вала и ограждающие ров рогатки отсутствовали. Крепостные ворота затворов не имели.
Губернатор хватался за голову, с отчаяньем выкрикивал:
– Всех, всех суду предать!
Но окружавшие его начальствующие лица и некоторые штаб-офицеры утешались тем, что в первую голову предавать суду пришлось бы губернатору себя.
Было сделано распоряжение: немедленно приступить к углублению рва и проведению всех необходимых крепостных работ силами гарнизона, сидевших в тюрьме каторжан и всех способных к труду местных жителей. Работать день и ночь. Уклоняющихся и нерадивых наказывать тут же, на месте.
Вскоре закипела работа. Появились тысячи тележных подвод. С ночи по всему фронту работ зажглись костры. Слышались крики, ругань, понуканье, скрип немазаных колес. По улицам города, через осеннюю тьму, сновали люди с фонарями, плелись, позвякивая кандалами, каторжники, скакали курьеры, вышагивали, гордо подняв голову, верблюды с поклажей на горбах.
Столь внезапно поднявшаяся суматоха напугала жителей и породила многие толки. В народе стали поговаривать, что Емельян Пугачев, которого начальство всячески стремится опорочить, совсем даже не простой казак, а «другого состояния».
У костров, как только отвернутся капралы с понукалами, сходятся нос к носу люди.
– Ну, как, братухи, неужто это и впрямь Петр III к нам шествует? – раскуривая от уголька трубку, шепчет бородач с подбитым глазом.
– Он, он, – враз отзываются козьи бородки, длинные носы, сутулые спины. – Самоглавнейше – он… Он, батюшка, жив-живехонек, из Питера-т скрыться успел…
– Вре-о-о…
– Правда-истина… – шамкает беззубый коренастый старичок, подвязанный по ушам пестреньким платочком. – У меня в землянке намеднись казак с его стану ночевал. Ну-к он все обсказывал, казак-то. У него, брат, войсков – уйма. И пушек сколь хошь… Попы навстречь выходят с образами…
– Я тебе дам, старый черт, попы! – выплывает из тьмы на свет костра капрал и трясет нагайкой. – Ррразойдись!
Подобные разговоры который уж день носятся по городу, будоражат жителей. Начальству известно, что пугачевцы подослали в Оренбург своих головорезов-возмутителей, начальство из кожи лезет, чтоб поймать их, но они неуловимы.
Чтоб положить конец всяким вздорным кривотолкам, Рейнсдорп измыслил составить воззвание к жителям и огласить оную публикацию в воскресенье, 30 сентября, во всех семи церквах.
Каменный, с золотыми куполами, Введенский собор до отказу набит молящимися. После обедни на амвон вышел курчавый, губастый дьякон. Он положил на аналой бумагу, обвернул концом парчового ораря указательный перст, перекрестился и отверз уста:
«По указу ее императорского величества, из Оренбургской губернской канцелярии публикация».
Народ всколыхнулся, вытянул шеи, замер.
– «Известно учинилось, что о злодействующем с Яицкой стороны в здешних обывателях, по легкомыслию некоторых разгласителей, носится слух, якобы он другого состояния, нежели как есть. Но он, злодействующий, в самом деле беглый казак Емельян Пугачев, который за его злодейства… – тут дьякон загрохотал на весь собор, – наказан кнутом, с наставлением на лице его знаков, но чтоб он в том познан не был, для того пред приверженцами своими никогда шапки не снимает. (По народу прошел вздох изумления.) Почему некоторые из здешних, бывших у него в руках, самовидцы, из которых один, солдат Демид Куликов, вчера выбежавший, точно засвидетельствовать может…»
И вдруг из густой толпы молящихся резкий тенористый выкрик:
– Ври, дьякон, да не завирайся! Лицо у батюшки-царя чистое, почище, чем у тебя, дьякон, и ноздри целы! А как батюшка прикладывается к святым иконам, шапочку завсегда снимает… Эх, ты, брехало! А вы, миряне, принимайте батюшку без сумления. Он доподлинный царь!