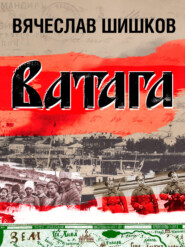По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Угрюм-река. Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Моя голова крепкая.
В общем на этот раз кончилось все благополучно. Нина продолжала свое пока небольшое дело, Прохор свое: рубил тайгу, вздымал пласты, опрокидывал скалы. И с горечью в сердце посмеивался над затеями Нины.
14
Но вот налетела с румяной веселой харей, сдобная, разгульная, в красном сарафане Масленица.
На два дня заброшены все заботы, и – дым коромыслом над тайгой. Русское разливное гулеванье, как и встарь в селе Медведеве при Петре Данилыче, зачалось с обжорства: чрез всю масленичную неделю катились колесом тысячи блинов. Тайга на много верст кругом пропахла блинным духом. Белка морщилась в дупле, медведь чихал в берлоге. Бродяги, спиртоносы и всякий темный люд, принюхиваясь, раздувая ноздри, спешили из таежных трущоб поближе к веселым людям: авось блинок-другой перепадет, авось подвернется случай кому-нибудь перерезать горло и вывернуть карманы.
Званые вечера, блины, ряженые: цыгане, медведи, турки, а ночью – катанье с гор. Прохор Петрович выстроил с крутого берега реки гору на столбах, она вихрем мчала на своей спине укрытые коврами сани на целую версту. По бокам пылали костры, горели смоляные бочки, факелы и сотни разноцветных фонарей. Вверху, на горе, гремел духовой оркестр. Чтоб музыканты не застыли на морозе, им отпущен бочонок водки. Трубы, флейты под конец начали сбиваться, и два барабана гремели невпопад.
Протасов, Прохор, Нина с Верочкой, мистер Кук и волк катались с горы на одних санях. За ними, на изукрашенной кошевке – Манечка, дьякон Ферапонт и хохотушка Кэтти. В ней большая перемена: она резва, игрива, вовсю кокетничает с дьяконом, а маленькая Манечка ревнует, злится.
– А вот ужо я вас на троечке… О-го-го-го!.. – гудит дьякон, как из бочки. – Вси языцы, восплещите руками!
За дьяконом мчится на санях-самокатах одетый Осман-пашой пьяный Илья Петрович Сохатых. Покачиваясь, он стоит дубом, размахивает бутылкой и орет, как козел на заборе:
– Яман! Якши!.. Ала-ала-ала!..
Его поддерживают за красные штаны и за ворот Февронья Сидоровна с Анной Иннокентьевной, две сдобные, как Масленица, бабы.
– Анюта! Анна Иннокентьевна! – взывает захмелевший Прохор. – Мармелад! Залазь к нам…
– Ала-дыра-мура! – козлом блеет Илья Сохатых. – Секим башка!.. Она мой гарем!.. – и под озорные крики летит кубарем из саней.
Визг, хохот, веселая пальба из ружей. А за санями еще, еще сани, кошевки, салазки, кучи ребятишек, кучи парней к девок. Писк, шум, песня, поцслуйчики…
– О, о! До чего очшень люблю самый разудалый Масленица! – восклицает мистер Кук. – Очшень лючший русский пословиц: «На свои сани не ложись!»
Он не знает, чем и как угодить Нине: и муфту поддержит, и ноги прикроет шубой, и все заглядывает, все заглядывает в ее глаза, тужится заглянуть и в сердце, но сердце богини замкнуто и холодно как лед.
– Берегите нос, – говорит она.
– О да!.. О да… Благодарю вас очшень. Мой нос – мое несчастье, – и утыкается раскрасневшимся лицом в енотовый пушистый воротник.
– Мамочка, волченька хвостик отморозил, – сюсюкает быстроглазка Верочка. – Он лижется.
Прошли два угарных дня, две ночи. С Кэтти что-то случилось; да, да, что-то такое стряслось странное, загадочное. Какие-то игривые грезы во сне и наяву будоражили ее, как хмель. Ох, уж эта Масленица! Ох, уж эти двадцать пять тишайших девических годков…
Манечка на целую неделю уехала в гости к тетке в ближайшее село. Ну, что ж, это ничего, это отлично, это замечательно.
Вот и яркая звезда зажглась, вот и месяц серебрит просторные пути. Дьякон Ферапонт нанял ямскую тройку и мчит к заветному крыльцу. Дубом воздвиг себя в санях, как колокольня, шапка набекрень, шуба нараспашку, забрал в левую горсть вожжи, в правой – кнут, в зубах – большая трубка, в передке саней – четвертуха водки и пельмени. Хо-хо, то ли не дьякон Ферапонт!
Может быть, и верно, – отец дьякон, а может, – искусный конокрад-цыган. Гей, гей, Манечка, люди, ямщики, летите за цыганом-похитителем в погоню!
– Ка-хы! – ухмыляясь в бороду, по-цыгански ухает великолепный Ферапонт, и – кони у крыльца.
Стук-бряк в звонкое колечко у ворот. Выходит она, закутанная в беличью, вверх мехом, шубку. Высокая и легкая. На голове пепельно-серая, с лунным голубым отливом, оренбургской шерсти шаль.
– Похищайте, похищайте, злодей, – говорит она и тихо смеется.
Ферапонт не знает, что отвечать, он радостно кричит: «Ка-хы!» И кони, вздрогнув, пляшут.
Вот кнутик свистнул, тройка взвилась и – ходу. Голубая пыль, блестки, бриллианты. Лобастый месяц поднял правую бровь и ухмыльнулся. Колдун ты, месяц! Ты старый, облысевший блудень, потатчик любовных шашней и сам первый в грешном мире потаскун…
Меж тем Нина Яковлевна всполошилась: в семь часов назначен оперный спектакль – отрывки из «Снегурочки», где дьякон Ферапонт, с вынужденного благословенья священника, должен играть Берендея.
Было признано, что по внешнему виду дьякон точь-в-точь – царь Берендей. А так как хороших, со сценической внешностью, теноров не нашлось, то волей-неволей решили теноровую партию Берендея спустить на басовый регистр. А что ж такое? Тут не императорский театр… Сойдет!..
Репетиции шли целый месяц. Снегурочку пела молоденькая жена инженера Петропавловского, Купаву – Нина, в Мизгири просился Илья Сохатых, но, по испытании его голосовых средств и слуха, ему запретили даже участвовать в хоре. Роль Мизгиря отдана письмоводителю из ссыльно-политических Парфенову-Раздольскому, бывшему провинциальному певцу. Он главным образом и руководил постановкой пьесы. Церковный хор прекрасно справился со своей задачей. Весьма украсили спектакль и учащиеся в школе.
Представление должно состояться в Народном доме, выстроенном Ниной и вмещающем в себя полтысячи зрителей.
Все сбились с ног в поисках пропавшего дьякона, обошли все тайные притоны, всех шинкарок, стражники колесили по тайге, свистали в свистки с горошинкой, одноногий Федотыч даже брякнул из пушки – авось дьякон услышит, вспомнит. Ах, чтоб его бес задрал!
А месяц с неба лукаво подмигивал бровями: «Знаю, мол, где дьякон, да не больно-то скажу».
…Проскакали гладкою дорогою верст двадцать и свернули к зверовой избушке-зимнику. Взмыленные кони пошли шагом. Зимовье – приземистая избушка с дымовым оконцем и низкой дверью. Звероловы коротают здесь долгие зимние ночи. Возле двери – сухие дрова-смолье. Дьякон берет охапку, разводит в каменке огонь. Зимовье топится по-первобытному: трубы нет, едучий дым набивает избушку сверху донизу, нет сил дышать. Дева сидит в санях, в густом кедровнике, мечтает. Сквозь хвою в черном небе горят далекие миры. «Что вы, кто вы?» – вопрошает она, запрокидывая охваченную жаром голову, но звезды безмолвны, грустны.
Дьякон стоит на карачках возле каменки, дует на костер, горько от дыма плачет. Когда накалятся камни и прочахнут угли, тогда дым выйдет вон, глаза обсохнут, можно пировать. «Дым», – созерцает она и морщит носик. «Дым валит из оконца, из распахнутой двери. А мне хочется есть и… пьянствовать». Сердце ее сладко замирает: лес, звезды, избушка – колдовство. Может быть, в книжках красивее, но здесь острей. Ха-ха, Ферапонт!.. Надо ж так придумать. Пусть все узнают, пусть Манечка ударит ее по щеке – она готова ко всему. Эксцентрично? Да. Вот в этом-то и весь фокус… «Ха-ха, не правда ли, пикантно?»
Она закрывает глаза, прислушивается к себе. Возле нее – медведь, огромный, черный.
– Сейчас буду варить пельмени, – говорит медведь и вытаскивает из саней два тюричка. – А я как на реках Вавилонских, знаете. Тамо седохом и плакахом. Дым, жар… Аж борода трещит… Ох, ты!
Она не слышит, что говорит медведь. От медведя пахнет дымом и чем-то странным, но слово «пельмени» вызывает в ней обильную слюну. Она открывает глаза.
– Ферапонт Самойлыч, вы дивный.
– Дивны дела твоя, – по-церковному отвечает из зимовья медведь и, помедля, кричит: – Уварились!
Он берет ее на руки и вносит в зимовье. Звезды готовы рассказать свою тайну – «кто вы, что вы?» – но девы в санях нет, звезды рассказывают тайну лошадям. Лошади внимательно слушают, жуют овес.
В избушке горят две свечи. По земляному полу – хвои, на хвоях – ковер. Дева сбрасывает шубу. Дьякон преет в рясе. Пельмени с перцем, уксусом аппетитны, восхитительны. Дьякон жадно пьет водку и каждый раз сплевывает сквозь зубы в угол. Дева хохочет, тоже пьет и тоже пробует сплюнуть сквозь зубы, но это ей не удается; она вытирает подбородок надушенным платком.
– Вы, краса моя, откройте зубки щелочкой и этак язычком – цвык! Я горазд плевать сквозь зубы на девять шагов.
Дьякон восседает на сутунке, как на троне, и все-таки едва не упирается головою в потолок: он могуч, избушка низкоросла.
– Говори мне – ты, говори мне – ты, – кокетничает голосом начинающая хмелеть дева.
– Сану моему не подобает, извините вторично, – упирая на «о», гудит дьякон. – Окромя того, у меня дьяконица… Обретохом яко козу невелику…
Дева хохочет, припадает щекой к рясе Ферапонта, тот конфузливо отодвигается.
– Ах, простите вторично… Вы чуть-чуть опачкали щечку сажей… Дозвольте. – Он смачивает языком ладонь, проводит по девичьей щеке и насухо вытирает сырое место прокоптевшим рукавом. Щека девы покрывается густым слоем копоти. Дьякон готов провалиться сквозь землю, но, скрывая свою неловкость, говорит с хитринкой:
– Вот и побелели, душа моя. Даже совсем чистенькая, как из баньки.