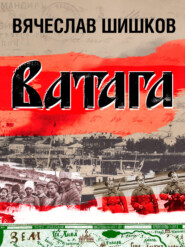По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Емельян Пугачев. Книга первая
Серия
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петр Федорович III – Император всероссийский
1
Каждая жизнь на земле, как и жизнь властелинов, кончается смертью.
Около трех часов пополудни, 25 декабря 1761 года, в праздник рождества Христова, скончалась в старом зимнем дворце императрица Елизавета, «привенчанная»[8 - Елизавета родилась до церковного брака Петра с Екатериной. Во время венчания родителей маленькая Елизавета, согласно обычаю, также ходила вместе с ними вокруг аналоя, держась за платье матери. Таких детей называли «привенчанными». – В.Ш.] дочь Петра I и «непомнящей родства» Екатерины.
Очень полная, высокого роста, с лицом одутловатым, но величественным и спокойным, бывшая государыня тяжко лежала на легких, умятых пуховиках, по грудь прикрытая шелковым, ярко-табачного цвета, одеялом. Изящные руки с побледневшими ногтями сложены на груди по-православному, крест-накрест. Изголовье взбито, приподнято. Наволочка с правой стороны в еще непросохших слезах: покидать жизнь веселую и трудную, оставлять обширную державу в бессильных руках злосчастного, черт его возьми, племянника было тяжело государыне сверх меры. И чудилось, что, чуть вскинув черные, выразительные брови, она грозит новому императору мертвым взором, ненавидит его, шлет ему проклятия.
За час до смерти Елизаветы наследник престола сидел в комнате рядом со спальней, где умирала императрица, и с нетерпением ожидал конца. А за две комнаты от спальни помещались сановитые князь Никита Трубецкой и генерал кригс-комиссар А.И. Глебов. В этой комнате толпилась кучка перепуганной знати, перешептывались, трясли головами, нюхали табак, утирали носы платками. Восседавшие за письменным столом Трубецкой и Глебов кивком пальца подзывали по очереди близких к наследству особ, тихо переговаривались с ними, что-то писали, ходили с докладами к наследнику.
По галереям, коридорам, во всем дворце царила суматоха.
При последнем вздохе государыни были: новый император Петр Федорович III, новая императрица Екатерина Алексеевна и четыре врача, не смогшие продлить угасающую жизнь и на четыре секунды. Старший из них, лейб-медик Мунзей, повернувшись к царствующим особам, опустив голову, взор, руки, взволнованно по-французски объявил о кончине государыни.
Петр Федорович, подмигнув покойнице, лейб-медику и всему миру, сделал лицо елико возможно постным. Екатерина, всхлипнув, прикрыла ладонью припухшие от долгих слез глаза. Она вся в крайней тревоге. Обычное самообладание оставило ее. С особой остротой в ее мыслях промелькнула еще не остывшая сцена, происшедшая сегодня поутру. К ней дерзновенно проник Григорий Орлов. От имени капитана гвардии князя Михаила Дашкова, волнуясь и устремляя на Екатерину умоляющие, в слезах, глаза, Орлов сказал: «Повели, владычица сердец наших, мы тебя возведем на престол». Перепутанная Екатерина, привскочив с кресла, зажала его рот ладонью, зашептала: «Бога ради… Как можно сие? Бросьте вздор!» Поцеловав ароматную ладонь ее, он уже с большей настойчивостью стал торопливо говорить: «Ваше высочество… Ловите момент… Государыня кончается… Мы все в страхе за судьбу любезного отечества… Мы все умрем за вас. Не медлите, решайтесь!» – «Нет, нет, – ответила она, чувствуя, как разрывается под корсажем ее сердце, – ваше предприятие есть рановременное, плод еще не созрел. Давайте ждать… Что бог захочет, то и будет». И вот теперь у постели скончавшейся императрицы она готова упрекать себя за свой нерешительный, бабий ответ мужественному гвардейцу. «Господи, помоги, помоги мне», – шепчет она.
Открылись двери. Из приемной чинно, парами вошли члены Сената, придворные и сановники высших рангов. Зал огласился рыданиями. Екатерина тоже заплакала, кинулась к покойнице, с искренней горестью припала к ее груди.
Узкоплечий император состроил гримасу «себе на уме», быстро повернулся кругом и, с пристуком переставляя негнувшиеся ноги и приподняв правое плечо, вышел. По коридору, на виду у публики, царь вышагивал размеренно и четко, он держал левую руку у шпаги, правой чуть помахивал; но чем ближе к своей комнате, тем походка его становилась быстрее, вот он вбежал к себе, притопнул, неестественно захохотал, подхватил на руки пыхтящую собачонку, стал с ней кружиться, взахлеб выкрикивать:
– Томи, Томи!.. Я император… Я император, самодержец всероссийский!.. Наконец-то, Томи… Довольно нам неприятных встреч с тетушкой… Что, что? Ты у кого на руках, псина собачья? Пошла вон, пошла вон! – Петр швырнул собачонку через стол в кресло. – Смирно! На караул! – и, подтянувшись и помахивая чуть согнутой в локте длинной рукой, приблизился к зеркалу, стукнул каблук в каблук. – Ваше величество! Мы, божией милостью, император и самодержец всероссийский. – И как бы спохватился, прищелкнул пальцами, отпрянул от зеркала прочь. – Шляпу-шляпу-шляпу… – надвигал на глаза неуклюжую голштинскую шляпищу с пером (и без того небольшое лицо его сразу стало маленьким, детским, треугольным), выхватил из ножен шпагу и, вскинув ее, по всем правилам торжественных парадов продефилировал перед портретом Фридриха Прусского. – Салют! Салют! – Повернулся и еще раз прошел, повернулся и еще раз прошел грудью вперед, салютуя шпагой. – Фридрих… Великий Фридрих, брат мой!.. Отныне я, император всероссийский, вечный твой друг… Вся моя армия и весь я к твоим услугам, дорогой добрый брат и отец мой великий Фридрих. Эй, кто там? Трубку императору! И… кружку пива…
Не однажды битый, но любимый им лакей, губастый пожилой арап Нарцис исполнил приказ. Петр с жадностью выпил пиво.
– Еще кружку! И Мельгунова сюда… Император требует к себе. Император!..
Вторую кружку с особой учтивостью величаво и чванно подал на серебряном подносе сам генерал-полковник Мельгунов. Государь с жадностью осушил и эту объемистую кружку: округлый, стянутый кушаком живот его заметно раздулся.
– Слушай, Алексей Петрович! – скрипящим, крикливым голосом воскликнул новый государь. – Я, император, приказываю тебе… – Он напыжился, сдвинул жидковатые брови. Большие, на полудетском лице, темные глаза его улыбались и серьезились, улыбались и прикидывались грозными. Он впервые повелевал как неограниченный владыка. От часто произносимого им слова «император» кровь приятно вскипала в нем, как от шампанского, и всякий раз бросалась в голову. – Передай государыне императрице, что сам император просит ее величество оставаться при теле почившей государыни и ожидать распоряжений государя императора, то есть моих.
«Полуглупо, как всегда», – внутренно усмехнулся умный Мельгунов, сказал:
– Слушаю, ваше величество, – и вышел.
Гремя серебряными шпорами, Петр величаво изволил проследовать в свою опочивальню. Тяжелая дверь льстиво заскрипела: «Император». Он видит – все стоит перед ним в страхе, навытяжку: сотни оловянных и вылепленных из теста раскрашенных солдатиков, прусские всадники, расставленные наверху запылившихся шкафов, чучело прусского витязя в доспехах, скрипка, столы, стулья, кровать, с длинными чубуками трубки – все эти бездушные вещи глядят на своего владыку почтительно и удивленно.
Слабый мозг Петра горел, сердце взбалмошно выстукивало: «Император, император, император». Перекликались в клетках чижи со щеглами: «Император, император». Маятник мюнхенских часов размеренно отбрякивал: «Им-пе-ра-тор». Углы взнузданных губ государя полезли вверх, обнажая в благодарной улыбке коричневые от безмерного куренья и плохого ухода зубы.
И вдруг, омрачая эти минуты самовлюбленного величия, какая-то каналья осмелилась крикнуть повелителю в лицо:
– Дурак!
Петр Федорович разинул рот, заморгал правым глазом, выхватил шпагу, в два прыжка скакнул к медному кольцу, где жался желтый попугай, и с размаху ударил по птице шагой. Попугай, подсвистнув, перелетел на печку и еще два раза прогнусил: «Дурак…»
Государь затопал, в бешенстве завизжал, швырнул в анафемскую птичку игрушечной пушкой. Вбежавшему арапу, давясь словами и слюной, стал в торопливости выкрикивать:
– Поймать, поймать, поймать!.. Поймать эту ку-ку-ку-рицу. Ощипать и бросить кошке… Кто ее научил? Кто ее научил? – и, красный, потный, выбежал в конференц-зал. – Я им покажу, я им всем покажу! Я не тетушка Елизавета в сарафане. Я, я… – бубнил он, не зная, чем успокоить себя.
2
В комнате с гробом читали Евангелие, окна открыты, втекал морозный воздух. Началась панихида, совершаемая знаменитым митрополитом новгородским Дмитрием Сеченовым. При пении придворным хором «Со святыми упокой» одетая в глубокий траур Екатерина и все присутствующие опустились на колени. Петр стоял столбом. Екатерина шептала ему: «Встаньте, встаньте на колени». Но тот никак не мог этого сделать: длинные голенища ботфорт необычайно узки, жестки, как железо, и столь туго напялены на ноги, что колени не сгибались. Петр обычно двигался, переставляя ноги, как деревянные ходули, а если нужно было сесть, он, подпрыгнув, шлепался сиденьем в кресло либо проделывал сложный акробатический прием: встав спиной к креслу, хватался за его поручни, выставляя ноги вперед в сильный наклон к полу и, скользя пятками по паркету, благополучно падал в кресло.
– Встаньте, прошу вас, – настойчиво повторила Екатерина, тщась не уронить высокого звания своего супруга в глазах новых его подданных.
Петр состроил гримасу и, выкинув ногами пируэт, попробовал опуститься. Левую ногу он оттянул елико возможно назад, сделал огромное усилие согнуть в колене и правую ногу, голенище громко заскрипело, как коростель в болоте, а нога и не думала сгибаться. Тогда Петр с отчаянием повалился лицом вперед в надежде справиться с деревянными ногами, лежа на полу. Он уперся ладонями в ковер и, оттопыривая зад и выгорбливая узкоплечую спину, тужился подволочить ноги к животу, чтоб всей силой согнуть их и хоть как-нибудь стать на колени. «О, черт», – кряхтел он, гримасничая, как на пытке, и скрежеща зубами. Видя безобразную и беспомощную позу его, два адъютанта живо подхватили государя под руки и враз вздыбили.
Пока вспотевший Петр корячился на полу, погребальное песнопение закончилось, все поднялись, злясь в душе на государя, что в столь трагическую минуту устроил такую гишпанскую комедию. От великой неприятности на щеках Екатерины сквозь пудру яркий проступил румянец. Екатерина негодовала на Петра и в то же время преисполнялась радостью: чем больше уронит себя новый император во мнении придворной знати, тем для нее лучше.
Митрополит произнес краткую речь, восхваляя деяния покойной и скорбя о том, что великая государыня безвременно скончалась.
– Слава богу, слава богу, слава богу, – скороговоркой выборматывал новый император, улыбаясь и подмигивая церковному, в золотой митре, краснобаю, а все присутствующие плакали, проливала слезы и Екатерина.
Затем все пошли в дворцовую церковь для принесения торжественной присяги. С крепости был пушечный салют.
В тот же день, в куртажной галерее, за три комнаты от покойницы, сервирован был на полтораста персон ужин, и, невзирая на траур, поведено было государем: всем быть на том ужине в светлом платье.
Подобное нарушение самых простых приличий прозвучало среди ошеломленной знати как явный вызов, как жесточайшее оскорбление издревле установленных обычаев.
Ужин проходил весело. Император, как водится, изрядно выпивал и в открытую амурничал с сидевшей против него любовницей Елизаветой Воронцовой. Мрачная, погруженная в свою печаль, с заплаканными глазами сидела рядом с царем Екатерина. За креслом Петра стоял осиротевший фаворит покойной императрицы Иван Иванович Шувалов. Он был полон искреннего горя, но и он принужден притворяться беспечным, радостным. Рядом с Екатериной толстобрюхий князь Никита Трубецкой. Сей «птенец Петра Великого», друг старика князя Кантемира, переживший семь царствований, видел падение многих своих милостивцев и благоприятелей, а иногда и сам участвовал в их гибели, но по своей изворотливости всегда умел вовремя оставить слабых и переброситься на сторону сильнейшую.
– Ваше императорское величество! – то и дело восклицает Никита Юрьевич Трубецкой, вытягивая жирную шею и стараясь зацеловать своего нового владыку взором преданного пса. Он прежде притворялся убогим и хилым, нынче счел полезным для своей карьеры затянуть свое тучное, на коротких ногах, тело в тугой мундир. – Не нахожу слов выразить вам, государь, радость, меня обуревающую, что наконец-то появился на земле русский великий царь, внук приснопамятного великого Петра… Радуюсь от всего сердца, что судьбы женского правления на Руси волею божией завершены. Отныне нами, россиянами, владеет повелитель…
Многие дамы с заплаканными глазами и многие вельможи – даже великий канцлер Михаил Ларионович Воронцов (дядя любовницы Петра) – взвесив льстивые выкрики этой старой увертливой лисы и не желая попасть в дурни, тоже принялись во все тяжкие распинаться в лести, стараясь захвалить быстро хмелевшего царя. Возмущенной Екатерине казалось, что бог в один момент лишил все это сиятельное общество стыда и чести. И ей стало страшно за себя, о чем впоследствии она и рассказывала своим близким.
Царь хмелел от вина и льстивых похвал, щекочущих его тщеславие. В недозрелом мозгу его вмиг поднялись хвастливые мыслишки, он действительно возомнил себя великим и стал вслух величаться, как внезапно разбогатевший купчик: я-ста да я-ста.
– Я в России не любим. Знаю, знаю! – выкрикивал он, покрывая своим резким, скрипучим голосом дружный хор льстивых царедворцев, старавшихся уверить императора, что вся Россия готова лобызать с сыновней любовью его священные стопы. – Знаю, знаю! – пристукивал он то хрустальным бокалом, то вилкой, украшенной короной. – Кто предан мне, того приближу и возвеличу (многообещающий кивок в сторону Елизаветы Воронцовой), кто супротивничает, того уничтожу… С Пруссией мир, мир… С Данией война… Сам поведу, сам поведу войска!.. Вы еще не ведаете, сколь я искусен в стратегии. Я перекрою карту всего света… Мы с Фридрихом… О, великий Фридрих!.. Апраксин изменник… Чернышев дурак… Подать мне Миниха, фельдмаршала Миниха подать сюда! Подать Бирона! Всех из ссылки вернуть! Я не позволю… Что, что? Прошу вас не вмешиваться, прошу не вмешиваться, прошу не вмешиваться! – Повернув лицо к Екатерине и косясь на нее, он стукнул перед ней бокалом и расплескал по скатерти наливку.
Обрюзгшая Елизавета Воронцова, изобразив позу величия, высокомерно взирала и на императора, и на приглашенных, и на свою соперницу Екатерину, удрученно молчавшую весь ужин. Расфуфыренные, в бриллиантах, княгини, графини и сенаторши втихомолку подольщались к жирной Елизавете, лаская ее взором и словами. Екатерина же действительно была в тени, ее как будто никто не замечал.
Она всю ночь проплакала, отметив это в памятной своей тетради.
Наутро, 26 декабря, ей принесли приказ: быть сегодня на парадном обеде в богатой робе, сидеть за столом в порядке, указанном билетами.
Обед с представителями иностранных дворов, приносивших утром поздравления с восшествием на престол, прошел так же шумно, как и вчерашний ужин. В спальне покойницы, пока длился обед, врачи анатомировали тело Елизаветы.
Французский посланник, молодой красавец барон Бретэль, и его жена, присутствовавшие на обеде, делились дома впечатлениями.
– А вы заметили, какой удрученный вид имела императрица? – сказал барон, сняв парик и швырнув его на этажерку.
– Для меня более чем ясно, что государыня никакого значения иметь не будет. Она одинока, – ответила баронесса. – Император удвоил свое внимание к этой противной мегере, девице Воронцовой. Императрица в ужасном положении: к ней относятся все с явным холодком. Бедная Екатерина!
– Успокойтесь, мой друг, – возразил барон, вытирая ароматным спиртом голову свою. – Вы плохо знаете молодую императрицу… А я достаточно наслышан о ее смелости, отваге, дерзании…
– Но я вижу, я же вижу…
– Простите, мой друг. Вы ничего не видите, а если и видите что-либо, то чисто, простите меня, по-женски.