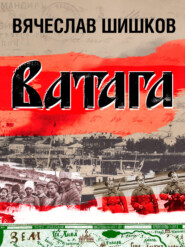По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Угрюм-река. Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А увидишь Прошку, скажи ему: батька хоть и ненавидит, мол, тебя, а любит. Нет, нет, нет, не говори! – закричал он, замахал руками и, дергаясь лицом, отъехал к самому окну.
– Я так полагаю, Прохор Петрович возьмет вас к себе.
– Был разговор?
– Был, – соврал гость.
Петр Данилыч вскочил, запахнулся в короткий, не по росту халат и стал быстро, как под крутую гору, кружить по комнате.
– Сам, сам, сам приеду, – бормотал он. – Я велю приклеить себе усы, бороду, лохмы. А то опять выгонит, а то опять засадит. Сам, сам приеду грозным судией. Дай покурить!..
– Нету-с.
– Дай понюхать!
– Нету-с. Вот апельсинчиков питерских вам в подарочек. – И старик положил на стол кулек.
– Уважаю. Здесь не дают. Да я и вкус потерял к ним. А съем. – Он вынул апельсин, торопливо стал скусывать с него кожу и сплевывать на пол.
– Позвольте, я очищу.
– Очисти, брат Кеша, очисти… – Он подсел к Груздеву и скороговоркой загудел, как шмель. – Я не сумасшедший, я здоровый. Я только дурака валяю, чтоб не выгнали, да дурацкие прошения пишу для отвода глаз. Я бы написал, я бы сумел написать, да боюсь – и впрямь освободят. Куда я тогда? В петлю? В петлю? Али к Прошке? Он не примет, опять куда-нито засадит, а нет – убьет. А ты пожалей меня, друг Кешка, пожалей. Упроси, укланяй Нину; она добрая. Пусть возьмет. А то спячу и впрямь. Пусть возьмет. В каморке буду жить, внуков пестовать. Ведь у меня деньги, много денег. Где они? У Прошки, у грабителя. А что ж, а что ж?.. Мне еще шестьдесят два года, мне еще жить хочется. Здесь уж который год живу. Пожалей, брат, пожалей меня, Кешка! За то Бог тебя пожалеет. Слезно прошу, слезно прошу, Кешка, родной мой, милый мой, возьми меня сейчас!.. Я как-нибудь с краешку. Якова Назарыча попроси… Всех попроси… Слушай, слушай! Поезжай в Медведево, по Анфисе панихиду. По жене моей панихиду. А когда вернусь, всех ублаготворю. И слушай – тебе как другу: приеду, притаюсь, ласковым прикинусь. А потом, когда час придет, выпущу когти и сожру Прошку, как мыша, с костями проглочу. Без этого не умру. Без этого меня земля не примет. Ярость гложет меня денно-нощно. Вишь, какой я? Чем был – чем стал! Злодей он, злодей, как не стыдно его харе! Отца родного… О-т-ца-а-а!..
Тут у него полились слезы, он бросил на пол недоеденный апельсин и повалился на кровать, лицом в подушку.
Вошел доктор с часами в руках и склянкой.
– Должен просить вас удалиться. Больше нельзя. Больной, не хотите ли ложечку микстурки?
Тот отлягнулся ногой и застонал. Сердце Иннокентия Филатыча обливалось кровью. Впору самому бы брякнуться на пол и рыдать.
– Прощай, Петр Данилыч, батюшка! Оздоравливайте.
– Здравствуй, Кешка Груздев, здравствуй! Твердо помни все. Не сделаешь – сдохну, а и мертвый ходить к тебе буду, замучаю. Я буйный.
Сморкаясь в красный платочек, старик возвращался со свидания, как с погоста, где только что зарыли в могилу друга. Он мрачно думал о далеких и близких, о тягостной людской судьбе, о собственной, склонившейся к закату жизни, о любимой дочери своей.
Его телеграмму Анна Иннокентьевна получила ночью, с трепетом прочла, ударилась в радостные слезы: «Папенька жив-здоров, папеньку не засудили». Утром пошла к Нине Яковлевне поделиться своей новостью, еще раз погрустить с хозяйкой о ее беде. Но дом Громовых в это утро не был опечален: вчерашние четыре телеграммы поставили в его жизни все на свои места.
Нина Яковлевна внешне выражала большую радость. Но что у нее в душе – никто, никто не знал. Даже Протасов, даже священник, которому заказан был благодарственный молебен о здравии «в путь шествующего» раба божья Прохора.
И всякий отнесся к странной игре судьбы по-своему.
Мистер Кук, совершенно протрезвев к утру, быстро вскочил с кушетки, потянулся и закурил трубку. Вместе с солнцем в лицо ему глянул предстоящий кошмар сегодняшнего дня. Нет, довольно быть тряпкой! Сейчас же пойдет к своей мадонне и… «Либо буду паном, либо очень пропаду», – попробовал думать он по-русски.
Иван, усерднейше подавая барину халат, сказал:
– Прохор Петрович живы-здоровы. Скоро изволят прибыть.
Изо рта остолбеневшего мистера Кука упала трубка и раскололась надвое.
Пятилетняя Верочка втолковывала волку:
– Волченька, серенький… Папочка скоро приедет. Ей-богу! Вот увидишь. Тилиграм пришел.
Волк крутил хвостом, лизал ей лицо и руки. Он внимательно прислушивался к человеческим речам, проникался общим приподнятым в доме настроением, часто вскакивал на подоконник и подолгу смотрел вдаль, где вот-вот должны забрякать бубенцы зверь-тройки.
Да! Всяк отнесся к судьбе хозяина, как подсказывало сердце. Пропившийся Филька Шкворень дал крепкий зарок не пьянствовать, ел толченый лук, запивал водой. «Ах, беда, беда… Влетит мне!» Напротив, дьякон Ферапонт с утра ушел к шинкарке, сказав жене, что идет в кузню, на работу. Весь день в радости пил и, чтоб не услыхала Манечка, в четверть голоса славословил Бога, спасшего Прохора Петровича от смерти.
Андрей Андреевич Протасов, получив известие, присвистнул как-то на два смысла и нахмурил брови.
Рабочие стали молчаливы. Нагоняя пропущенное, работали с усердием. Вздыхали.
Угрюм-река по-прежнему катила свои воды. С виду равнодушная ко всему на свете, широко и плавно стремясь в солнечную даль, она омывала земные берега, где назначена могила каждому.
Наденька и пристав злобно фыркают друг на друга, как кошка и собака, пан Парчевский с утра мается резкими приступами частого расстройства желудка, Иннокентий Филатыч едет, Угрюм-река течет.
Но мы обязаны знать, что было в Питере до отъезда Иннокентия Филатыча. На другой день после происшествия Яков Назарыч с разрешения врача показал Прохору заметку о его смерти. Прохор прочел, улыбнулся, а потом рассмеялся громко, во все легкие, но тут же схватился за грудь и болезненно сморщился.
Тем же утром автор этой заметки, хроникер желтой газетки Какин, в люстриновом разлетайчике, в длинном, цвета маринованной куропатки галстуке, написал за десятку опровержение, смысл которого был подсказан пострадавшим.
«СИБИРСКИЙ КОММЕРСАНТ П. П. ГРОМОВ НЕВРЕДИМ
Во вчерашней заметке о смерти г. Громова вкралась досадная неточность. Заметка была составлена на основании рассказа психически ненормального громовского служащего И. Ф. Груздева, возвратившегося из бани и там, видимо, запарившегося. Мы сегодня лично навестили П. П. Громова. Он в шутливой форме рассказал нам, как накануне подвыпил с фабрикантом Ф. в одном из столичных ресторанов и, видимо, там отравился несвежей стерлядью. Возвращаясь домой, почувствовал себя скверно и лишился чувств. Не исключена возможность, что на него наехала карета, а может быть и автомобиль, так как пострадавший впал в длительный трехчасовой обморок, который и был истолкован как естественная смерть. Таким образом, ни о каких мнимых жандармах, ни о какой уголовщине, к счастью, не может быть и речи. Редакция выражает г. Громову свое искреннее и глубокое сожаление в опубликовании неосмотрительной роковой заметки, перелагая свою невольную вину на совесть вышеуказанного психически больного Груздева».
Прохор выслушал, одобрил, прибавил репортеру еще десятку, и заметка получила блестящее завершение:
«Редакция, с своей стороны, считает своим долгом выразить неподдельную радость, что столь крупный коммерсант, как Прохор Петрович Громов, слава о больших делах которого все шире и шире распространяется по нашему отечеству, – здоров и невредим. Такие деятели европейского масштаба весьма нужны России. Просим другие газеты перепечатать».
– Отлично, – сказал Прохор. – Ежели заметка будет напечатана целиком, получишь еще двадцать пять рублей. И следи за газетами. За каждую перепечатку тоже по четвертной.
Счастливый репортер, елико возможно изогнувшись, три раза поклонился Прохору, три раза с пафосом ударил шелковой кепочкой в ладонь, оттопырил свой ледащий зад и, в знак высокого почтения к хозяину, стал, расшаркиваясь, выпячиваться спиною в дверь.
Полиция точно так же ничего не могла добиться от Прохора, кроме тех данных, что он поведал репортеру, и сверх сего ста рублей за беспокойство. Прохор отлично понимал, что трепать, позорить свое имя без всякой надежды на успех – невыгодно и глупо. Ну, что ж… всяко бывает. Он съел пощечину от стервы, претерпел побои от мерзавцев, – вперед наука. Он все отлично помнил, что в тот вечер происходило с ним, но ни слова ни тестю, ни Иннокентию Филатычу. Все шито-крыто.
А меж тем впоследствии, и очень скоро, вся подноготная докатилась до Парчевского и, чрез Наденьку, была доведена до всеобщего сведения.
Прохора пользовал первоклассный доктор. Побои сильные, втерпеж разве коню, но богатырская натура Прохора все превозмогла: через неделю он был таким же бодрым, энергичным.
У Прохора Петровича деловые дни и вечера в заботах. Заседания, совещания, хлопоты – то в железнодорожном департаменте, то в учреждениях горного ведомства. Он присматривался к инженерам, к техникам. У него должны начаться большие работы по постройке крупных мастерских и оборудованию нового прииска. Помимо того – исполнение взятого подряда: прокладка двух шоссейных дорог в тайге и железнодорожного пути к магистрали. Эта последняя миллионная работа – пополам с казной. С тремя инженерами и шестью техниками он заключил договоры. Чрез месяц они должны быть у него на месте. Путиловский завод заканчивал нужные Прохору механизмы, завод Сан-Галли – чугунные отливки.
Прохор приказал Иннокентию Филатычу собираться в путь-дорогу.
– А ты?
– Я через неделю следом. В Москву заехать надо. Механический завод в купеческом банке заложу.
– Зачем?