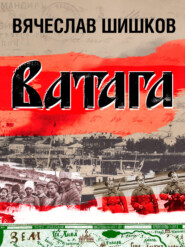По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Емельян Пугачев, т.1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К Пугачеву вперевалку подошел упитанный, румяный человек с густой, опрятно расчесанной бородой, снял обеими руками шапку и, чинно поклонившись, сказал:
– Позволь, надежа-государь, слово молвить. Аз раб Божий православной древлеапостольской веры, храмы наши убираю малеванием, а такожде и лики старозаветных икон подновляю. Вот намеднись довелось мне писать лик старца Филарета, всечестного игумена...
При упоминании о Филарете, игумене раскольничьего скита, что на реке Иргизе, глаза Пугачева расширились. Еще так недавно, под обликом бродяги, Емельян Иваныч прожил у него в укрытии три дня. Тогда в мятущуюся душу запали многие слова умного старца. Игумен говорил, что Петр Федорыч, может быть, жив, а может, и умер, как знать? Только народ ждет его с упоением. И еще: «Народ похощет, любого своим сотворит, лишь бы отважный да немалого ума человек сыскался», – произнес тогда старец поразившие Пугачева слова.
И вот сейчас перед ним бородатый Богомаз... Уж не обмолвился ли ненароком игумен Филарет, не сказал ли чего лишнего этому человеку? И Пугачеву стало неприятно. Он взглянул на румяного, голубоглазого бородача с немалым подозрением. Но открытое, добродушное лицо живописца успокоило его. Человек в черном длиннополом казакине, на кожаной лямке через плечо висит перепачканный мазками красок деревянный ящичек, кисти рук живописца белые, с длинными пальцами.
– Говори, что тебе надобно и как звать тебя?
– Зовут меня Иван, сын Прохоров. А как вы были, батюшка, скорым заступником веры нашей древлей, обрелось во мне усердие писать лик ваш царский, – заискивающе улыбнулся живописец.
– Изрядно, изрядно! – Пугачев покрутил усы, поднял плечи.
– Для ради сего в укромное место куда-нибудь нужно, надежа-государь...
Сержант Николаев, смущенно хлопая глазами, сказал не без робости:
– Наидостойным местом я почел бы канцелярию, ваше величество, там и холст сыщется. Да и находитесь вы своей особой против нее.
– Добро, добро, Николаев! Нехай так, – сказал Пугачев и пошел в канцелярию. Все последовали за ним.
Сержант Николаев тронул живописца за плечо и показал глазами на висевший в дубовой раме поясной портрет Екатерины: валяй, мол, на нем. Живописец подморгнул, улыбнулся, кивнул головой в сторону Пугачева: а вдруг, мол, батюшка на это прогневается. Николаев шепнул: «А ты спроси».
– Ваше царское величество, – масляным голосом обратился бородач-живописец к Пугачеву. Он без тени сомнения принимал его за истинного императора. – Хоша у меня припасена для ради письма лика вашего подгрунтованная холстина, да, вишь ты, беда – подрамника нету.
– Да как же быть-то, Иван Прохоров?
– Да вот как быть... Дозвольте, батюшка, посадить вас на всемилостивую матушку, – и живописец указал рукою на портрет.
Пугачев пристойно рассмеялся (подражая ему, все вокруг заулыбались), крутнул головой, сказал:
– Ну и штукарь!.. Чего ж ты, бороду, что ли, намалюешь Катерине-то да усы?
– Пошто! Я напредки грунтом ее перекрою, а как грунт поджухнет, вас на оном писать зачну.
В канцелярии было довольно светло. Пугачев обернулся к портрету и прищурился. На него вполоборота глядела величавая дама с большими глазами, с поджатыми, слегка улыбавшимися губами, с оголенными круглыми плечами, к правому плечу голубая лента, на груди осыпанная драгоценными каменьями звезда.
– Гордячка!.. Заговорщица!.. – Он сдвинул брови, лик его стал грозным. Живописец, неотрывно наблюдавший за Пугачевым, переступил с ноги на ногу, оробел. – Вот ужо соберу силу да тряхну Москвой, тогда и тебе, красавица, туго будет... Станешь локоток кусать, да не вдруг-то укусишь. Ладно, сажай на Катьку! – приказал он бородачу.
Портрет сорвали со стены. Пыль, дохлые мухи, паутина, живой паук...
Живописец попросил государя, чтоб все ушли, не мешали бы. Пугачев оставил дежурного Давилина. Живописец раскрыл ящик с кистями и красками в стеклянных пузырьках, заткнутых деревянными пробками. Терпко запахло скипидаром и олифой. Покрыв портрет серым грунтом, бородач сказал:
– Ой, беда, многотрудно писать лик-то ваш, батюшка, зело много скорби в очах-то ваших светлых. А вторым делом, эвот, эвот какие складки меж бровей-то к челу идут, как у Николы Чудотворца – гневлив на неправду Христов угодник был, – говоря так, речистый живописец перетащил с Давилиным на середину канцелярии дубовую скамью. Давилин свернул втрое свой чекмень и положил под сиденье государя.
Тот сел, расчесал гребнем усы, бороду, приосанился, поправил высокую мерлушковую шапку. Давилин взломал кинжалом запертый кленовый шкаф, добыл голубоватые листы добротной бумаги. Иван Прохоров, близоруко прищуриваясь и оскаливая зубы, внимательно рассматривал лицо Пугачева и штрих за штрихом накладывал на бумагу очиненным липовым углем. Это был набросок, проба.
– Слышь, Прохоров? – сказал Пугачев. – А долго ль мне, как статуя, сидеть доведется?
– Да не столь долго, надежа-государь, прижухнет грунт скоренько, у меня средствия особые подмешаны... – откликнулся живописец и, чтоб развлечь батюшку, стал рассказывать: – За веру стражду, ваше величество. Из богоспасаемого града Воронежа от гонителей веры нашей бежать повелось страха ради. И даде мне приют всечестной старец Филарет, под единою кровлей обретаемся с ним вкупе.
Пугачев вновь встревожился.
– Сколь давно ты у него проживаешь-то?
– Да с весны, батюшка, с нынешней весны, с месяца мая. Старец-то в Казань меня спосылывал, к Щелокову-купцу. Таперичь в обрат вертаюсь. В Яицкий городок заезжал, а там, ведаешь, рабов Божьих нашей веры довольно. Да беда! В руки Симонова коменданта едва не угодил...
– Ах, наглец, изменник! – сказал Пугачев, отмахнувшись от мухи. – Не уйдет он от моей царской руки. Его да еще Крылова капитана со всем отродьем в петлю вздерну... Супротивление оказывали мне.
– Ну, вот таперичь, ваше величество, замрите, – прервал царя живописец, взял загрунтованный портрет Екатерины и, помолясь на восток двуперстием, приступил к делу. – Не ворочайтесь, батюшка, сидите смирно. Да не можно ли в пресветлые очи-то улыбочку пустить, а то горазд хмурый выйдете, батюшка...
– Благодарствую, пущу, – сказал Пугачев. Но как ни старался, не мог придать глазам веселость.
– Ах, ах! – сокрушался живописец. – Хошь морщинки-то по челу меж глаз как ни то разгладьте...
Портрет писался в напряженном молчании.
Были выписаны глаза да основные черты лица, все же остальное едва намечено.
– Сие распишу и без вашего усердного сидения, батюшка. Зело притомились, поди?
Пугачев действительно заскучал. Но сознание, что его пишут как царя, давало ему силы переносить скованность неволи...
– Ну вот, присмотритесь, ваше величество...
Пугачев подошел к портрету.
– Неужто я таков? Горазд грозен да немилостив...
– Сущий вы, батюшка, – что видело око мое, то и на холст положило, – потупясь, ответил живописец. – Взор царственный, вселяющий в души смертных немалый трепет, неправду людскую, аки огонь, сжигающий.
– Давилин, схож ли я?
– Капелька в капельку, ваше величество! Ежели бороду снять, на великого Петра Алексеича смахивать станете...
– На дедушку моего? Не врешь, так правда! – сказал Пугачев и вышел. Портрет ему не понравился. Он ожидал увидеть себя в славе и сиянии, с державой и скипетром в руках. И пожалел затраченное время.
...Через две недели портрет был в келье игумена Филарета. Кланяясь в ноги старцу, живописец восторженно говорил:
– Лик государя объявленного, Петра Федорыча, списал, великого заступника веры нашей...
– Покажь, покажь.
Живописец развязал портрет, упакованный в синюю набойчатую скатерть, и, как некую святыню, подал игумену. Тот долго всматривался в черты изображенного лица. Наконец воскликнул:
– Ай-ай-ай! Хоть и не больно схож, а он... Камо гряду от лица твоего? Аще взыду на гору, ты тамо еси; аще спущуся во ад, ты тамо еси... Вскую шаташася, – старец произносил слова эти каким-то загадочным голосом, а в его глубоких темных глазах поблескивали огоньки.
Живописец смущенно нашептывал старцу: