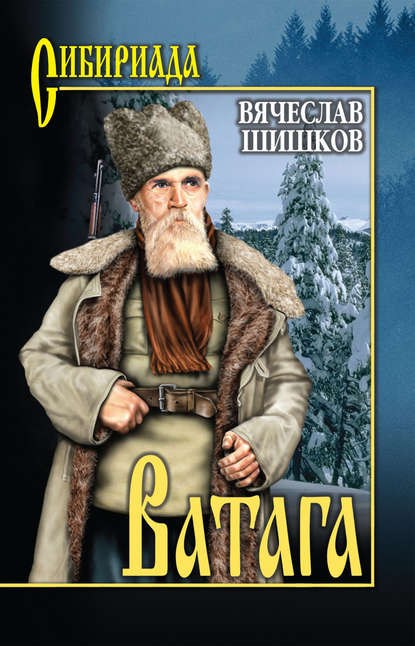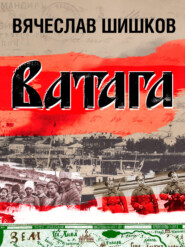По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ватага (сборник)
Серия
Год написания книги
1923
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рыжий исподлобья медленно взглянул на него:
– Я – неизвестно кто. А берусь… Давай деньги!.. Я каторжанин… И ты каторжанин. Давай деньги!.. Ей-богу, приведу!.. Самого Зыкова. Живьем… Давай деньги!
– А где Зыков? А где Зыков? Эй, рыжий!.. Говорят, сюда идет?! – закричали в народе.
– Зыков убит в горах.
– Нет, не убит… Идет… Сюда идет.
– Враки! – густо, по-медвежьи рявкнул рыжий. – Зыков теперича к Монголии ударился, войско собирать. А за три тыщи приведу… Берусь!
Вдруг послышалось на улице «ура» и резкий свист. Рыжий злорадно и загадочно вскрикнул:
– Ага, голубчики! – и тяжелым шагом двинулся к дверям.
Народ в испуге поднялся с мест. Одни бросились к выходу, другие к окнам, но стекла густо расписал мороз, и сквозь мороз непрошенно лезли в дом свист и крики.
– В чем дело? Сядьте, успокойтесь!.. – отчаянным, дрожавшим голосом взывал председатель. – В чем дело?.. Стой!.. Куда! – И сам был готов сорваться и бежать.
– Назад! Назад! – вкатывалась в дверь обратная волна. – Назад!.. Это два офицера, чехословаки, что ли… Поляки, поляки!.. И отряд… Десять человек… Двадцать… Сотня… Целый полк!
И с треском в зале, через гром аплодисментов:
– Ура! Ура!..
Два поляка-офицера при саблях: тучный, лысый, с бачками, и черноусый, молодой, в синих венгерках, в длинных, чесаного енота, сапогах, тоже кричали ура, тоже хлопали в ладони.
Но не все присутствующие выражали патриотический восторг, многие угрюмо молчали. Как камень, молчал и рыжий. Скрестив на груди руки, он стоял, привалившись к косяку, и ждал, что будет дальше. А дальше было…
Акцизный чиновник Артамонов в церковь и на митинг не ходил. Черт с ним, с митингом, он беспартийный, черт побери всех красных, белых и зеленых, он просто труженик, ему надо обязательно к 15-му числу двухнедельную, по службе, ведомость составить. Царь был – царю служил, Колчак пришел – Колчаку, большевики власть возьмут – верой и правдой будет большевикам служить, черт их задави.
Отец Петр тоже не ходил в собор. Счастливый отец Петр.
Отца Петра крестьянин из соседней деревни на требу к себе увез, старуху хоронить. Отказывался, не хотелось ехать. Но крестьянин в ноги упал, крестьянин два золотых отцу Петру в священнослужительскую ручку сунул. Батюшка согласился и уехал. Счастливый отец Петр, уехал!
А чиновник Федор Петрович Артамонов замест того, чтоб на счетах щелкать, упражняется с Мариной Львовной в чаепитии.
Состояние духа их тревожно. Что-то будет, что-то будет? В этакие, прости Господи, времена живем. Но в тревогу постепенно, исподволь, вплетается какое-то томление, лень и нега. Давненько это началось, а вот сегодня крепко на особицу.
Не это ли самое томление их почуял сердцем отец Петр и упорно отказывался на требу ехать? А все-таки поехал. Судьба. Счастливый отец Петр, счастливые Марина Львовна и акцизный чиновник Артамонов!
Кисея, старинные часы в футляре, герань, два щегла, ученый скворец, портреты архиереев. Самовар пышет паром, и пышет здоровьем пышная Марина Львовна, попадья. Дымчатый китайский кот зажмурился, у горящей печки дремлет.
– Ужасно все-таки народ стал вольный, – сказала матушка и положила Федору Петровичу в чай со сливок пенку. – О девицах и говорить нечего, но даже женщины.
– Наши дни подобны военной будке: белый, красный, черный, – ответил слегка подвыпивший Федор Петрович. – А женский пол поступает хорошо.
– Чего же тут хорошего? – спросила матушка, улыбаясь.
– А что же тут предвидится плохого? – озадачил хозяйку гость и легонько погладил рукой ее полную ногу. – Тут ничего плохого нет.
– Ах, как это нет! – вспыхнула матушка и задвигала стулом.
– Веяние времени, – смиренномудро заметил гость и еще ласковей тронул дрогнувшую ногу матушки. Матушка развела коленки и быстро их сомкнула, сказав:
– От этих веяний могут выйти неприятности. Уберите вашу руку!
– При чем же тут рука?
Глаза чиновника горели. Он оправил виц-мундир, оправил бороду и стал закручивать усы.
– Одна девка другой сказала, – проговорил он: – а ты любись, чего жалеешь… Черту на колпак, что ли? – и захихикал.
Матушка тоже захихикала и погрозила ему мизинчиком. Федор Петрович в волнении прошелся по комнате, остановился сзади хозяйки и вдруг, схватив ее за полную грудь, насильно поцеловал в губы.
– Что вы делаете?.. Что вы делаете? Ой! – вскрикнула она и, перегнувшись через спинку стула, страстно обхватила Федора Петровича за шею.
В дверь раздался стук.
– Это Васютка.
Десятилетний попович Вася – большой любитель всяческих событий. От усталости он шумно дышал и, захлебываясь словами, торопился:
– Дай-ка чайку… Поляки пришли. Полсотни. Офицеры. Будут большевиков судить. Один то-о-олстый, с саблей, офицер-то. А кони маленькие, с кошку. Я ура кричал, а другие дураки свистали. К купцу пошли обедать. Повар проехал, вино провез. Дай-ка хлебца. Пойду. Нет, не задавят, мы с Сергунькой!..
И мальчик, хлопнув дверью, убежал.
Из окна видно серое небо, серый день и край городишка, а там, дальше, в каменных берегах, – река. По белой ее глади вьется, убегая за серую скалу, дорога. Струи реки быстры, на самой середке вода прососала большую полынью. Черная вода ее обставлена редкими вешками.
Артамонов отошел от окна. Он чувствовал себя, как пропуделявший по дичи охотник. Черт дернул того дьяволенка не вовремя прийти.
– Я бы желал выпить водки, – сказал он.
Марина Львовна, покачивая бедрами, подошла к шкафу. Одну за другой Артамонов выпил три рюмки, а матушка только две.
– Не Марина ты, а Малина! – пришлепнув ладонь в ладонь, игриво воскликнул Федор Петрович, и…
…Сумерки надвинулись вплотную. В истопленной печке золотом переливаются потухающие угли. Кот, выгибая спину, косится на кровать, идет к двери и мяукает. Бьет шесть часов.
И опять кто-то нетерпеливо задергал скобку двери.
– Васютка, – сказал Артамонов и стал зажигать лампу.
Суетливо оправляя прическу и подушки, матушка сквозь глубокий вздох сказала:
– Теперь я понимаю сама, как пагубно действует революция даже на женщин духовного звания. Ах, Федор Петрович, злодей ты…
– Да-а-а, – неопределенно протянул тот, – седьмой час уж. – Он дыхнул в закоптелое стекло лампы и, сложив фалду виц-мундира свиным ухом, стал действовать им наподобие ерша.
– Я – неизвестно кто. А берусь… Давай деньги!.. Я каторжанин… И ты каторжанин. Давай деньги!.. Ей-богу, приведу!.. Самого Зыкова. Живьем… Давай деньги!
– А где Зыков? А где Зыков? Эй, рыжий!.. Говорят, сюда идет?! – закричали в народе.
– Зыков убит в горах.
– Нет, не убит… Идет… Сюда идет.
– Враки! – густо, по-медвежьи рявкнул рыжий. – Зыков теперича к Монголии ударился, войско собирать. А за три тыщи приведу… Берусь!
Вдруг послышалось на улице «ура» и резкий свист. Рыжий злорадно и загадочно вскрикнул:
– Ага, голубчики! – и тяжелым шагом двинулся к дверям.
Народ в испуге поднялся с мест. Одни бросились к выходу, другие к окнам, но стекла густо расписал мороз, и сквозь мороз непрошенно лезли в дом свист и крики.
– В чем дело? Сядьте, успокойтесь!.. – отчаянным, дрожавшим голосом взывал председатель. – В чем дело?.. Стой!.. Куда! – И сам был готов сорваться и бежать.
– Назад! Назад! – вкатывалась в дверь обратная волна. – Назад!.. Это два офицера, чехословаки, что ли… Поляки, поляки!.. И отряд… Десять человек… Двадцать… Сотня… Целый полк!
И с треском в зале, через гром аплодисментов:
– Ура! Ура!..
Два поляка-офицера при саблях: тучный, лысый, с бачками, и черноусый, молодой, в синих венгерках, в длинных, чесаного енота, сапогах, тоже кричали ура, тоже хлопали в ладони.
Но не все присутствующие выражали патриотический восторг, многие угрюмо молчали. Как камень, молчал и рыжий. Скрестив на груди руки, он стоял, привалившись к косяку, и ждал, что будет дальше. А дальше было…
Акцизный чиновник Артамонов в церковь и на митинг не ходил. Черт с ним, с митингом, он беспартийный, черт побери всех красных, белых и зеленых, он просто труженик, ему надо обязательно к 15-му числу двухнедельную, по службе, ведомость составить. Царь был – царю служил, Колчак пришел – Колчаку, большевики власть возьмут – верой и правдой будет большевикам служить, черт их задави.
Отец Петр тоже не ходил в собор. Счастливый отец Петр.
Отца Петра крестьянин из соседней деревни на требу к себе увез, старуху хоронить. Отказывался, не хотелось ехать. Но крестьянин в ноги упал, крестьянин два золотых отцу Петру в священнослужительскую ручку сунул. Батюшка согласился и уехал. Счастливый отец Петр, уехал!
А чиновник Федор Петрович Артамонов замест того, чтоб на счетах щелкать, упражняется с Мариной Львовной в чаепитии.
Состояние духа их тревожно. Что-то будет, что-то будет? В этакие, прости Господи, времена живем. Но в тревогу постепенно, исподволь, вплетается какое-то томление, лень и нега. Давненько это началось, а вот сегодня крепко на особицу.
Не это ли самое томление их почуял сердцем отец Петр и упорно отказывался на требу ехать? А все-таки поехал. Судьба. Счастливый отец Петр, счастливые Марина Львовна и акцизный чиновник Артамонов!
Кисея, старинные часы в футляре, герань, два щегла, ученый скворец, портреты архиереев. Самовар пышет паром, и пышет здоровьем пышная Марина Львовна, попадья. Дымчатый китайский кот зажмурился, у горящей печки дремлет.
– Ужасно все-таки народ стал вольный, – сказала матушка и положила Федору Петровичу в чай со сливок пенку. – О девицах и говорить нечего, но даже женщины.
– Наши дни подобны военной будке: белый, красный, черный, – ответил слегка подвыпивший Федор Петрович. – А женский пол поступает хорошо.
– Чего же тут хорошего? – спросила матушка, улыбаясь.
– А что же тут предвидится плохого? – озадачил хозяйку гость и легонько погладил рукой ее полную ногу. – Тут ничего плохого нет.
– Ах, как это нет! – вспыхнула матушка и задвигала стулом.
– Веяние времени, – смиренномудро заметил гость и еще ласковей тронул дрогнувшую ногу матушки. Матушка развела коленки и быстро их сомкнула, сказав:
– От этих веяний могут выйти неприятности. Уберите вашу руку!
– При чем же тут рука?
Глаза чиновника горели. Он оправил виц-мундир, оправил бороду и стал закручивать усы.
– Одна девка другой сказала, – проговорил он: – а ты любись, чего жалеешь… Черту на колпак, что ли? – и захихикал.
Матушка тоже захихикала и погрозила ему мизинчиком. Федор Петрович в волнении прошелся по комнате, остановился сзади хозяйки и вдруг, схватив ее за полную грудь, насильно поцеловал в губы.
– Что вы делаете?.. Что вы делаете? Ой! – вскрикнула она и, перегнувшись через спинку стула, страстно обхватила Федора Петровича за шею.
В дверь раздался стук.
– Это Васютка.
Десятилетний попович Вася – большой любитель всяческих событий. От усталости он шумно дышал и, захлебываясь словами, торопился:
– Дай-ка чайку… Поляки пришли. Полсотни. Офицеры. Будут большевиков судить. Один то-о-олстый, с саблей, офицер-то. А кони маленькие, с кошку. Я ура кричал, а другие дураки свистали. К купцу пошли обедать. Повар проехал, вино провез. Дай-ка хлебца. Пойду. Нет, не задавят, мы с Сергунькой!..
И мальчик, хлопнув дверью, убежал.
Из окна видно серое небо, серый день и край городишка, а там, дальше, в каменных берегах, – река. По белой ее глади вьется, убегая за серую скалу, дорога. Струи реки быстры, на самой середке вода прососала большую полынью. Черная вода ее обставлена редкими вешками.
Артамонов отошел от окна. Он чувствовал себя, как пропуделявший по дичи охотник. Черт дернул того дьяволенка не вовремя прийти.
– Я бы желал выпить водки, – сказал он.
Марина Львовна, покачивая бедрами, подошла к шкафу. Одну за другой Артамонов выпил три рюмки, а матушка только две.
– Не Марина ты, а Малина! – пришлепнув ладонь в ладонь, игриво воскликнул Федор Петрович, и…
…Сумерки надвинулись вплотную. В истопленной печке золотом переливаются потухающие угли. Кот, выгибая спину, косится на кровать, идет к двери и мяукает. Бьет шесть часов.
И опять кто-то нетерпеливо задергал скобку двери.
– Васютка, – сказал Артамонов и стал зажигать лампу.
Суетливо оправляя прическу и подушки, матушка сквозь глубокий вздох сказала:
– Теперь я понимаю сама, как пагубно действует революция даже на женщин духовного звания. Ах, Федор Петрович, злодей ты…
– Да-а-а, – неопределенно протянул тот, – седьмой час уж. – Он дыхнул в закоптелое стекло лампы и, сложив фалду виц-мундира свиным ухом, стал действовать им наподобие ерша.