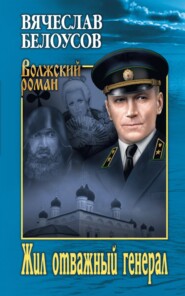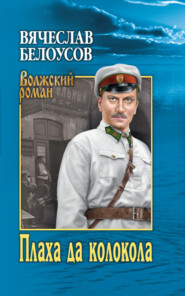По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Провокатор
Серия
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это у него самое гадкое слово.
– И кто научил?
– Птица она сама всё понимает. Тем более попугай. Они, говорят, до триста лет живут. Этому вот и неизвестно сколько. Он со Степанычем мыкался, а до него со стариками – владельцами. А тех, от кого достался, – вовсе не ведомо. Может, ему уже лет сто пятьдесят. Он, может, с какого-нибудь острова Борнео самим этим… Крузенштерном на паруснике завезён. Он насквозь тебя видит! Со всеми твоими потрохами.
– Ты наговоришь, – хмыкнул недоверчиво Жмотов, но от клетки отошёл, на попугая покосился, примостился подальше на табуретке. – Откуда у этого безмозглого прозорливость такая? У него башка, во! С гулькин нос. Там кости одни, извилинам негде быть.
– Птица с ребёнком, с дитём схожа, – грустно улыбнулся Минин. – Она врать не научена, как мы с рождения, поэтому непосредственная, что видит перед собой, что слышит, что думает, на то и реагирует соответствующим образом. А попугаи в особенности. Чуткая, чистая натура, он тебе в душу заползает, проникает в самую затаённую твою глушь. Отыскивает такое, о чём, может быть, ты и сам не догадываешься.
Жмотов и рот открыл, глазищами заморгал, не зная, верить оперуполномоченному, или издевается тот над ним, а Минин вполне серьёзно продолжал:
– Видишь, как он на тебя таращится неотрывно, голову склонив, будто доктор изучает. Заинтересовал ты его. А у них это без промаха: хороший человек – значит, доверие; дерьмо – дальше без интереса. И сволочных враз определяет. Ему, чтобы правду знать, не требуется, как тебе, к кулаку прибегать, раскалывать…
– Ишь ты! – Жмотов опять отодвинул табуретку от клетки. – Сам-то, Степаныч, не боишься, что тебя раскусит этот твой провидец? Сам-то давно определился, что хорошее, а что говнецом отдаёт?
Он с сомнением на капитана покосился и зло хохотнул:
– Во, философа я открыл! Ты, Степаныч, на себя не похож. Залечили тебя в больнице. Рассуждать стал… Мысли какие-то попёрли. Не замечал я раньше.
– Я сам себя открыл за эти несколько последних дней. Словно пелена с глаз спала.
– После того как отец Кондратий шарахнул? – не унимался лейтенант.
– И это помогло. Знаешь, когда смерть за плечами почуешь, всё острее и видишь, и понимаешь.
– Вон оно как! – с интересом уставился Жмотов на оперуполномоченного. – И чего же ты почуял?
– Жизнь свою рассмотрел, только с другой стороны на неё взглянул. Поздно понять всё удалось. Но пробрало.
– Интересно, интересно…
– Раньше, может быть, я и не сказал бы тебе этого, Прохор, а теперь, когда ты за моей спиной следишь, самая пора пришла.
– Ну, ну…
– Ты вот всё про птицу калякаешь. Почему, мол, провокатор? А ведь не ты один голову над этим ломал. И мне, чего уж тут, невдомёк было. Я тоже Михеича пытал. А он отнекивался. Говорил, что рано, мол, не созрел я, чтобы доверять мне. А тут как-то намекнул. Я-то сразу не допёк. Уж больно у него мудрёно получалось. А теперь вот и я учуял. Нет, не юлил он предо мной. Правду открывал…
– Ты чего тумана-то напускаешь, Степаныч? – Жмотов насторожился весь, прямо в кулак сжался. – Ты чего вокруг да около шкандыбаешь?
– Птица эта спать ему не давала, понимаешь…
– Чего уж тут! Орала небось по ночам. Когда ж уснёшь. Только в пьяном виде.
– Да ты погоди с выводами-то, – отмахнулся Минин, замолчал сам в затруднении. – Как бы тебе объяснить? Это предлог вроде для Степаныча, причина, что ли. Он не спал по ночам, а мысли-то разные в голову лезли, заставляли о себе, о жизни нашей, о людях размышлять, о делах теперешних…
– А чего ему думать? – дёрнулся Жмотов. – Что он жизнь зря прожил? Сам же говорил! Всю жизнь он воевал. Потом врагов народа душил. Что приказывали, то и исполнял. Мы же все, как он. Ты думаешь, я ночами дрыхаю?.. Тоже иногда в башке такое закрутится!.. Только водка и выручает.
– Вот! – Минин подскочил к Жмотову, в глаза ему заглянул. – Значит, понял меня, о чём я тебе долдоню. Не всегда всё гладко, что стелется. Не все они сволочи, которых мы к стенке ставим.
– Ты что, рехнулся, Степаныч? – вытаращил глаза Жмотов. – Это ты переборщил! Я тебе про одно, а ты про другое! Наше дело маленькое, мы – следователи.
– Ты себе хоть не ври! – сжал кулаки Минин и так глянул на лейтенанта, что тот от него отшатнулся. – Мы и решаем их судьбу. Они после твоих кулачищ суду уже готовыми достаются!
Оперуполномоченный смерил посеревшего лейтенанта ещё раз хмурым взглядом, но тот уже сжался весь, спрятал руки аж за спину.
– Пацанва-то та, из деревни, для Степаныча последней каплей, видать, и стала. Он мне рассказывал в тот день, перед смертью, что пробовал убедить Ахапкина. И так и эдак с ним. Мол, какие они контрики? Сопляки паршивые. Их пороть да пороть, конечно, но не за решётку на десять лет!.. Ну разве это пятьдесят восьмая статья! Разве эта пацанва враги народа? Ну скажи мне?..
– Степаныч, погоди…
– Чего молчишь? Сам-то соображаешь? Ты же рядом был, когда их допрашивали? Сам вопросы задавал…
– Погоди, погоди, Степаныч, – подозрительно отодвинулся Жмотов от капитана. – Это что же? Ты так рассуждаешь, будто это первое дело у тебя?
– Что?
– Учителей мы недавно замели за испорченные учебники, забыл? Там же тоже, как ты говоришь, баловство сплошное! В картинках вождям усы и бороды подрисовали!.. Или другое дело, когда председатель колхоза под эту самую пятьдесят восьмую загремел за портрет, вырезанный ножницами!.. А старуха семидесятилетняя, которая по книжке Иосифа Виссарионовича гадала! А когда тот же Михеич полгода назад упрятал в тюрьму заику, который не мог сразу выговорить имя маршала Ворошилова и называл его просто Вором?..
– Вот и дошло до него! – заорал Минин на Жмотова и весь затрясся. – Лазарев, этот мальчишка, поэт и поставил точку на прежнюю жизнь майора Подымайко. Не захотел Михеич больше чужие судьбы губить. Сам свой суд свершил. Только над собой.
– Ну это ты уж совсем загнул… – оторопел лейтенант.
– Думай, как хочешь. А я Степаныча понял. Письма только его предсмертного не нашёл. Должно оно быть. Не верю я, чтобы Степаныч мне последних слов не сказал. Бумажку-то ту, что при нём была, я враз отыскал. Но это для всех она. Стишки там глупые, на пацанов тех его намёк. Про птицу эту тоже, чтобы я её кормил да заботился. Чтоб клетку чаще чистил… А я, старый дурень, можно сказать, только эту птицу и начал понимать, а чтоб чистить, совсем забыл…
Голос у капитана пропал, он добрёл до стенки, привалился, ссутулился.
– Свои, чужие… Куда тебя понесло, – поморщился Жмотов. – Так, знаешь, до чего договориться можно?
– Теперь уже поздно. По-другому мне теперь ни думать, ни говорить. Раз тебя приставили, мне и у них веры нет.
– Да разберутся, Степаныч! Чего ты заладил? Всех же таскает этот особист.
– Всех, да не всех. Мы с Подымайко, чую, у них поперёк горла. Мы оба из Смерша, а Абакумова они ещё с прошлого года в тюрьме держат. Вот и раскинь мозгами.
– Ахапкин доверял, не трогал, значит, и в этот раз отстоит.
– Не верю я Ахапкину. Раньше верил, а теперь нет. Был у меня с ним разговор. Он на Михеича таких собак спустил… Тошно слушать. Врагом его объявил за то, что тот за пацанву заступился.
– Опять ты туда…
– Да разве это враги!
– Ничего, посидят в лагерях, поймут, как с плакатиками бегать.
– Десять лет?
– Не расстрел же!
– А ты хотел, чтоб вышку?