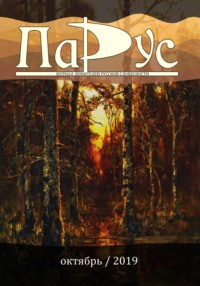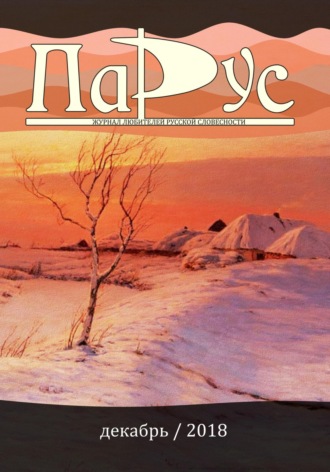
Журнал «Парус» №70, 2018 г.
чтоб тайной сутью взять с поличным;
чтоб трепетным своим корням,
питавшим всякое словечко,
за трезвость к терпким временам
вдруг припасти глоток на вечность!
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
От слёз последней суеты
до полугодовалых всхлипов
меня не вспоминаешь ты,
а невозможно любишь, Липа.
***
Давным-давно в земле сырой лежит моя любовь.
…Она приехала в наш класс из города Белёв.
Изящней, царственней, нежней не знал я красоты!
Увы, не бегал я за ней, не наводил мосты,
записку передал всего один лишь только раз,
и получил в ответ стихи, что ранят посейчас…
Иное грезилось ли ей, была ль она слаба,
но до сих пор не верю я, что это не судьба,
что в безответности ты сам не обретаешь дом,
где небо делается вдруг твоим же должником,
где белый фартук, лёгкий бант и локон у виска,
где песня «Надо же» как крик с последнего звонка!
Как будто школа ходит в нас, позабывая срок,
а та авария и смерть один большой урок,
что нет и не было вовек другой такой любви
у милой девочки моей, у Колюжовой И.
ТРИПТИХ НАСМЕШЛИВОЙ БОЛИ
1
Кровотечение старого кирпича
на сереньких стенах Налоговой
инспекции, въехавшей в церковку с лёгкого
решения какого-нибудь Кузьмича,
не свяжешь по-свойски ни ваткою
сугроба, лежащего тут, за оградкою,
ни плотною марлей бинта
снегопада от Небесного Красного Креста…
И не пусто, размыслив коротко,
в медицинских аптечках города,
да на помощь не скор в нём люд.
Не окажут. Скорей, добьют.
2
В кровопотере старого кирпича
на сереньких стенах Налоговой
инспекции самого, кажется, недалёкого
нет резону для властвующего дурачья.
«На пиру буржуазной политики
без того столько крови повытекло,
что, ощерится, пей не хочу!»
Где уж тут обращаться к Врачу.
Герб орлиный парит над народами!
Он следит за твоими доходами,
он, двуглавый, следит за тобой,
как ты дышишь свободой такой?
3
Кровоподтеки старого кирпича
на сереньких стенах Налоговой
ни одному даже с «волчьим логовом»
не срифмовать из клерков ее сгоряча.
Впрочем, сеятель триптиха этого,
сотрудник мощнейшего педколледжа Дорассветова,
сам, должно быть, не так преуспел в стихе,
как, скажем, в безумии или грехе:
стоит у окна, элегантный, стареющий,
под взглядами тонких студенток взрослеющих,
смущённый не жизнями их безохранными,
а в проулке напротив посмертно запекшимися ранами.
ЭТОТ ТОПОЛЬ У ДОМА
этот тополь у дома
и забор покосившийся весь
и журавль и солома
дом и тополь у дома
пусть навеки
останутся
здесь
плотью клин свой возделай
и душою засей не вразброс
БОГУ ВЕЧНОЕ ДЕЛО
до безумия
искренних
просьб
УМЕР МОЙ ДЯДЮШКА…
умер мой дядюшка
вечный лесничий
сделался вепрем а может
лисичкой
слился с просёлком
с грибным перелеском
плеском озёрным
живым таким плеском
свежим туманом за чудо-холмами
в тихой низинке где топь с бочагами
Господи
с чем же ещё он мог слиться
с листьями дуба в зелёной петлице
зеркальцем селезня
клюквой на диво
полем
где вызрел avena sativa*
с непобедимой своею двустволкой
с жизнью короткою ставшею
долгой
_______
*Овёс обыкновенный (лат.).
К АНАТОЛИЮ**
Вот крест!
Настанут времена
такие, Толя,
когда ни плевел, ни зерна
не будет в поле.
Когда не будет ничего
на нём, похоже,
поскольку поля самого
не будет
тоже.
Не будет честного труда
и хитрой лени,
ни слова «нет»,
ни слова «да»,
ни слова «Ленин»;
ни зла
от крови детской до
собачьих будок,
ни цвета беж, ни звука До
уже не будет;
противоречащих идей;
событий броских;
и даже белых лебедей
не будет
просто.
Запомни:
хлеба и вина,
дорог
и станций…
И только эта тишина,
ты слышишь, Толя (!!!),
ТИ-ШИ-НА
пойми, дружок,
она
одна
должна
остаться…
Художественное слово: проза
Дмитрий ЛАГУТИН. Спица
Рассказ
Мы ссыпали в пакеты кисти, краски, заталкивали туда же крохотные складные табуреточки, заматывались в шарфы и, перешучиваясь, толкаясь, шли через парк. Впереди скользила высокая и тонкая наша Галина Игоревна по прозвищу Спица. Скользила широченными шагами, не оборачиваясь и не сбавляя темпа, а мы, дергая девчонок за косы и срывая с них шапки, семенили следом.
Вокруг роняли листву клены, под ногами шуршало. Тянуло теплой, душистой сыростью. Остались позади колонны Дома пионеров, призраком проплыл забытый фонтан – изъеденный трещинами и мхом – а мы всё шли и шли, и конца не было видно этому золотому царству.
Впереди, за стволами, замелькала местная достопримечательность – медведь Константин. Это было допотопное – когда-то белое, а ныне серо-зеленое – изваяние в виде огромного медведя, вставшего на задние лапы и растопырившего передние. Напротив статуи раскинула ветви молодая, тонкая осина, недавно только пересаженная вглубь парка, и казалось, что Константин и осина спешат навстречу друг другу, ожидая объятий. У медведя были удивленная морда и похожий на картофелину хвост чуть пониже спины, и всё это придавало ему нелепый вид – смотреть на него без смеха было невозможно, даже если местные пэтэушники забывали сунуть ему в зубы сигарету.
Автором скульптуры был некий Константин В. На постаменте, под когтистыми лапами, так и было написано: «скульптор Константин В. – в дар навеки любимой alma mater». Вернее, так было написано когда-то, если верить Спице. Теперь же, по странной прихоти судьбы – или хитрых пэтэушников – все слова, кроме гордого «Константин», были начисто стерты. Так медведь обрел имя.
– Смотри! – зашипел Вовка.
Он кинулся к Константину, выхватил из-за пазухи черный пластмассовый пистолет и шарахнул пистоном в маленькое серо-зеленое ухо.
– Володя! – окликнула его Спица, не сбавляя шага. – Это неуважительно по отношению к художнику и жестоко по отношению к животному.
– Я – Дубровский! – закричал ей в ответ Вовка и дал два победных залпа в воздух. Птицы сорвались с веток и заметались в панике.
– Дубровский вызвал бы тебя на дуэль, – сообщила мраморным тоном Спица и ускорилась. Деревья поредели, сквозь листву смотрело небо.
Вовка юркнул к нам.
– А кто такой Дубровский? – спросил я.
– Какой-то солдат, – ответил Вовка. – Он воевал с Наполеоном и застрелил медведя в ухо.
– А что ему этот медведь сделал? – вклинилась розовощекая Оля Петрова.
Вовка закатил глаза.
– Какая разница? – потряс он рукой. – Это же война!
– Молодые люди! – пронесся над нами голос Спицы. – Все ко мне!
Это означало, что парк закончился и сейчас надо будет перебираться через пути. Мы обступили Спицу и затихли. Предстоял инструктаж.
Спица сняла очки, подышала на стекла, потерла их голубым платочком и вернула на переносицу. Потом отбросила со лба непослушную прядь.
– Молодые люди. Если хоть кто-нибудь (пауза) из вас (пауза) позволит себе отделиться от группы, пока мы находимся рядом с рельсами (пауза)… я закрою нашу студию, уволюсь и не напишу больше ни одной картины. – Она обвела нас холодным взглядом. – И в этом будете виноваты (долгая пауза) только вы.
Спица уже тогда – в тот год ей исполнилось тридцать – была самым известным в нашем городе художником. Ее картины возили в Москву, к ней приезжали на мастер-классы студенты художественных училищ со всей области, про нее время от времени писали в газете и поговаривали даже, что ее знают и ценят чуть ли не в Европе. Поэтому угроза звучала более чем жутко. Исполнись она, всю нашу младшую группу с позором бы изгнали из города.
– И нам бы пришлось скитаться по лесам, жить в землянках и есть лягушек, – расписывал в красках Вовка. Он очень любил фантазировать на эту тему. – Вот была бы жизнь!
– А теперь все прижались ко мне, как к родной матери, – Спица развела руки, как птица, собирающая под свои крылья птенцов, – и шагом марш на ту сторону!
Мы сгруппировались и многоруким, многоголовым чудовищем вывалились из парковой калитки. Все молчали и только шуршали пакетами. Время от времени раздавалось сдавленное шипение – кому-то наступили на ногу. Спица повела нас по узенькой тропе, которая сперва тянулась себе спокойно вдоль насыпи, а метров через десять отчаянно изгибалась и пересекала железнодорожные пути.
Пыхтя и сопя, – спокойствие сохраняла только Спица, – мы подобрались к насыпи. Спица подняла вверх указательный палец – это означало требование тишины, и все затаили дыхание. Шумел за нашими спинами парк, завывал где-то заводской гудок. Поезда слышно не было. Спица опустила руку и медленно зашагала вверх по насыпи. Мы тянулись за ней, как приклеенные. Насыпь была чуть выше человеческого роста, но в наших детских глазах казалась горной грядой.
Вовка изловчился и ущипнул Олю за шею, но она не взвизгнула, а только обернулась и гневно сверкнула глазами. В этот момент мы оказались наверху.
На всю жизнь врезалось мне в память то мгновение. Серое, с перекатами, небо – широкое и похожее на озерную гладь, какой она бывает в непогоду. Из-под ног в обе стороны убегают рельсы – далеко, насколько хватает глаз. Мы жмемся к Спице, а она стоит, как колокольня, смотрит вдаль, и непослушная прядь прыгает по высокому лбу.
Спица приосанилась, и я почувствовал на своем плече ее руку – тонкую и легкую руку художника – бледную от холода, с просвечивающимися ручейками вен. Кто-то оступился, и с насыпи покатились с радостным стуком камешки.
– Не зеваем, – скомандовала Спица и поволокла нас на ту сторону.
Мы слетели вниз и горохом рассыпались по тропинке.
А затем нам предстоял долгий путь через бесконечные рощи и поля в поисках подходящего вида. В рощах было сыро, по полям гулял ледяной ветер. Небо, как нарочно, растеряло все свои переливы и стало равномерно серым, будто заштукатуренным; наличие солнца угадывалось лишь по вытертому светлому пятну в облаках. Осень здесь была не такая, как в городе, не огненно-золотая, парковая, а затухающая, уже почти отжившая. От рощиц за нами подолгу гнались березовые листочки, дождем сыпавшиеся откуда-то сверху, а поля встречали желтой жухлой травой, на которую не хотелось наступать.
Спица летела вперед, и ветер заискивающе кружил вокруг нее, то поправляя шарф, то сбивая на плечо. Она летела так, будто видела впереди конкретную цель, но чем дальше, тем яснее становилось – погода играет против нас и, скорее всего, в какой-то момент мы просто развернемся и пойдем обратно. В прошлом месяце мы писали усадьбу на заре, до этого березовую рощу в солнечный день, теперь же над нами шутила осень, оставшись в городе вместо того, чтобы пойти следом.
– Галина Игоревна, – пропищала Оля, уставшая и от дороги, и от Вовкиных облав, – давайте сегодня парк порисуем.
– Оленька, – не оборачиваясь, отвечала Спица, – если ты не будешь доверять своему наставнику, ты ничему не научишься.
– Проверяй, но не доверяй, – шепнул мне на ухо Вовка, и мы засмеялись.
Вовка вдруг кинулся вбок, и в Олю полетело что-то серое.
– Крыса!!!
Оля завизжала так пронзительно, что я зажмурился. Дети бросились врассыпную, роняя пакеты. Я в ужасе отпрыгнул от мохнатого нечто, приземлившегося посередь дороги. Неужели Вовка дошел до того, что и впрямь стал швыряться дохлыми крысами?
Но нет, обошлось. Приглядевшись, я узнал в скользком комке здоровенную шерстяную рукавицу, грязную и выцветшую. Кто-то из мальчиков ткнул ее ногой. Вовка пополам сложился от смеха.
Оля, тяжело дыша, выглядывала из-за Спицы, губы дрожали. Спица провела ладонью по ее волосам и шумно выдохнула.
– Володя, – медленно протянула она, закрыв глаза.
Вовка вышел на дорогу.
– Володя, – повторила Спица.
Вовка насупился. До голени его брюки были мокрыми от травы.
– Простите, Галина Игоревна, – промямлил он.
– Не. У. Меня, – не открывая глаз, отчеканила Спица.
Вовка вздохнул, вытер нос грязной рукой и повесил голову на грудь.
– Оля Петрова. Прости. Меня. Пожалуйста, – прокрякал он и сунул руки в карманы.
Оля, презрительно задрав подбородок, проплыла мимо Вовки к своему пакету, из которого во все стороны рассыпались краски и кисти – словно и они тоже испугались и пытались сбежать.
– Тебе, Володя, сегодня будет персональное задание, – спокойно проговорила Спица, – но это чуть позже. Молодые люди, – она подняла вверх руку, – рассаживайтесь и доставайте краски.
Никто не шелохнулся. Потом, будто оттаивая, мы принялись робко оглядываться по сторонам, пытаясь понять, чего от нас хотят. Вихляя то влево, то вправо, уползала вдаль пыльная дорога. С одной стороны ее обрамляли жиденькие кустики, робко выглядывавшие из травы, с другой – поодаль – взгляд натыкался на редкие березки, скинувшие уже листву и сиротливо жавшиеся друг к другу. Насколько хватало глаз, расстилалось серо-желтое поле, то тут, то там вздыхавшее холмами, за которые с готовностью пряталась дорога. Даль тонула в серой мгле и сливалась с таким же серым небом, по которому тянулись мрачные, угрюмые тучи. Далеко-далеко, налево от дороги, на спине одного из холмов темнели домики.
– Молодые люди, – нарушила тишину Спица. – Я одета не так тепло, как вы, а потому давайте-ка начинать. Раскладывайте свои троны, усаживайтесь поудобнее и принимайтесь за наброски. Сегодня старайтесь больше смотреть, чем писать, и стройте композицию так, чтобы с максимальной достоверностью перенести пейзаж на чистовую – в студии.
Мы в молчании, переглядываясь, – а не сошла ли Спица с ума? – повтыкали в пыль табуретки, прищепками закрепили на картонках бумагу и взялись за кисти. У каждой табуретки возникла баночка с водой, краски бросали тут же, под ноги.
– Надо было в такую даль тащиться, – пробурчал Вовка, придвигаясь ко мне, – писали бы сразу заводскую стену.
– Володя, встань, будь добр. У тебя, напоминаю, задание персональное, – оборвала его Спица. – Переместись, пожалуйста, во-он туда, – она махнула рукой за наши спины. – Ты, Володя, сегодня пишешь не пейзаж, а натюрморт.
Все на мгновение затихли, а потом захохотали, поняв, что она имеет в виду. Вовка покачался с минуту с пятки на носок, глядя куда-то в сторону, но потом все-таки потащился к злосчастной рукавице и поставил табурет в метре от нее. И сел к нам спиной.
– Володя, постарайся, пожалуйста, передать тонкую лирику сего предмета, – совершенно серьезно наставляла Спица. – Я хочу, глядя на твою картину, понимать, чья это рукавица, при каких обстоятельствах она оказалась в этом поле и при каких обстоятельствах, – интонация пошла вверх, – она оказалась на том месте, на котором мы видим ее сейчас.
Вовка демонстративно поерзал и не ответил. Варежка одиноко и как-то виновато темнела у его ног.
– Остальные пишут пейзаж под названием… – Спица кончиками пальцев уперлась в подбородок. – «Осенняя дорога».
И мы писали «Осеннюю дорогу». Становилось всё темнее, только у горизонта почему-то светлело. Ветер лез за шиворот и под рукава. Было слышно, как шагает между нами Спица, рассматривая с высоты своего роста наши каракули, поправляя, подсказывая. Взгляду не за что было зацепиться, мы не понимали, каким должен быть результат, потому что не видели ничего, что было бы достойно переноса на бумагу. Перед нами не пылали золотом клены, не парила радуга, не мерцала водная гладь – унылый серый пейзаж уплывал вдаль неуловимым, рискуя сползти куда-то за горизонт и исчезнуть. Небо и земля смотрели друг в друга молча и пристально, лицом к лицу, образуя шатер или грот. Вспоминая тот поход, я долгое время считал, что Спица поторопилась, что мы тогда были еще слишком малы для того, чтобы понять саврасовскую поэзию, но теперь я убежден в том, что лучшего момента нельзя было и найти. Непостижимым образом тихий серый пейзаж вошел в нас и затаился, он жил где-то в глубине сердца, в памяти, в творчестве – незаметный, но и незаменимый. В какой-то мере этот пейзаж влиял на наш внутренний мир, храня в нем тихий, спокойный уголок, в который ничему постороннему не было входа.
Спица всё это знала, она вела нас по пути собственных впечатлений. Раньше я считал, что лучшие ее картины висят в музеях. Теперь мне кажется, что их она написала внутри нас. В ее действиях я по прошествии лет наблюдаю удивительную ясность и промыслительность – если и был среди нас человек, не готовый еще к восприятию невзрачной красоты, он был огражден от нее – а точнее, она от него – чьей-то рукавицей.
А тогда я, как и все, недоуменно следовал указаниям. Я всматривался в серую даль, и взгляд мой бисером рассыпался по всему ландшафту, серая даль была непонятна и представляла собой слепое пятно невиданных размеров. Серый оказался цветом, выходящим за рамки привычного спектра. В серой дали были тишина и ожидание, в ней были будничность и грусть, в ней были неудовлетворенность и неустроенность, отсылавшие к чаяниям и надеждам. Серая даль не была самодостаточна, и в этом, наверное, и заключалась ее суть – она тянула за собой вереницу образов и выступала в роли ширмы.
Всё это незаметно вливалось в меня, как в сосуд; я неуклюже водил кистью по бумаге, а душа моя – это я понял потом – училась тишине и чуткости.
Спица подошла к Вовке и что-то говорила ему. Он сидел ссутулившись и изредка со скрипом чесал шею.
Когда домики на холме куда-то поплыли в сумерках, а горизонт вдруг моргнул и исчез, предоставив небу хлынуть на землю, Спица хлопнула в ладоши и провозгласила:
– Сворачиваемся, молодые люди!
Мы, притихшие, продрогшие, полусонные, поднимались с табуреток, сгребали наш инвентарь и – с сырыми еще эскизами в руках – готовились отправиться в обратный путь. Вовка долго топтался поодаль, всё дул на свой натюрморт, даже мне отказался его показывать и подошел ко всем только после того, как запрятал «Осеннюю варежку» в пакет.
Спица нарушила всеобщее молчание лишь у самых путей. Мы выслушали инструктаж и с готовностью облепили ее. На вершине гряды, когда нога моя запнулась о шпалу, я подтянулся и поверх голов посмотрел вдаль. Железная дорога уплывала к небу.
Щеку укололо холодным, закапал дождь. Спица ускорилась.
По возвращении стало известно, что пока мы писали «Осеннюю дорогу», в актовом зале выступал скульптор Константин В. – он проездом оказался в родном городе и нанес визит «навеки любимой alma mater». Рассказывали, что он был уже совсем стар, и поначалу никто из сотрудников его не узнал. На выступлении он волновался, часто подносил к глазам платочек и всё время путал имена своих наставников. После – ходил по парку в поисках медведя, а найдя, долго стоял напротив, загородив осину, и смотрел.
Спрашивал про Спицу, но ее на месте не оказалось.
«Осенняя дорога» в дюжине вариаций осела на стене одного из коридоров, но провисела недолго: некоторые помещения, включая коридор, требовали ремонта. В процессе перетасовок – кружки и секции расселяли по соседним кабинетам – наши этюды куда-то затерялись. Свой натюрморт Вовка после долгих раздумий отдал-таки Спице. Я видел «Осеннюю варежку» лишь раз – через пару лет, когда Спица перебирала полки в поисках работы на конкурс. Она вытянула из стопки прямоугольный лист, мятый с одного края, показала нам и сказала, что «что-то в этом есть» и что «зря Володя ушел из студии».
Я был недавно в том, что осталось от парка. Значительную его часть выделили под крытый теннисный корт. Бело-голубая коробка, в которую вместилось бы два Дома пионеров, обложенная парковочными местами, надменно смотрела на призрак фонтана, коряжистые клены и нелепого Константина, стремящегося с объятиями к своей осине. Осина разрослась, вытянулась, и кончики ее ветвей в дождливую погоду касались макушки медведя. Студией руководил какой-то бородатый студент, я спросил его, можно ли порыться в старых бумагах в поисках «Осенней дороги», но он ответил, что большинство картин Галина Игоревна забрала с собой, когда переезжала.
На вопрос о месте переезда он пожал плечами и сказал, что Спица уехала куда-то в Европу.
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись пятая: «Тяжелая, грозная тайна»
«За амбарами, к самым воротам стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головой кружку с надписью: “Все выпью”. На другой фляжка, сулеи и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны…» Эта, отмеченная среди «изображений» своей красотой, эмблема на погребе – напоминает о том, что мир, уходящий в глубину, в землю – перевертыш. У гномов он – отражение нашего: вверх ногами. И то, что видно нам – им не видно. Но могут увидеть, если… Об этом «если» и вся повесть Гоголя «Вий»…
Мир – тайна, что подлинное, что мнимое, мы не знаем. Глядим на зелень берегов Днепра ли, Волги, на дорогу по глинистой горе, сад с грушевыми деревцами, на погреб с нелепо намалеванной лошадью. Но это может вдруг перевернуться ясным смыслом, как вниз головой, и окажется: козак – не козак: вместо карих запрыгают зеленые очи, все лицо завесится волосами, похожими на коренья с землей. Днём – сотник, владелец хутора, а ночью… – Вий, дочка его, панночка – ведьма, козаки – нечисть, гномы… Что такое мир, что за ним? Человеку дано видеть лишь куски мира, дневные и ночные: то сотник с козаками, то ведьма с нечистью.
Мы, пользуясь словами Гоголя, на мир глядим, как будто «спим с открытыми глазами». А каков он есть, его другая часть – тёмная, нам неизвестно, скрыто нам же во благо. Но стоит заглянуть в очи этой тайны – мы гибнем, будто заглянули в глаза Вию, всезнающему, всевидящему. (Далее мы это положение разъясним подробней).
У Данте в «Аду» в предпоследнем круге, где, заметим, предатели родни и Родины вмерзли в лед по шею, мучатся и полулюди, полуживотные, наполовину скалы, наполовину сросшиеся в ком тулова – сторукие бриареи. Они, как написано в одном из примечаний к повести, могли навеять образ Вия. Нечистые духи – те же титаны и гиганты. Огромные, мохнатые и крылатые. В первом варианте у Гоголя осталось более подробное описание схожих существ, окруживших в церкви философа Хому Брута: «Он увидел вдруг такое множество отвратительных рыл, ног и членов, каких не в силах бы был разобрать обхваченный ужасом наблюдатель. Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него были внизу с одной стороны половина челюсти, с другой другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног; вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиной почти со слона, таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и выгибались, как будто чудовище желало подняться»… Подметим еще, что пирамида, из которой ломается язык, напоминает о треугольном погребе.
Мир человека космичен, завершен – и для этих недоносков распавшихся недоступен. Бесы как бы разделывают образ человеческий на куски: отдельные, живые ноги, глаза, белые мешки… И синяя рука вместо головы, конечно, видит как-то по-синеручному. И связка ног силится встать в каком-то своем пространстве, в своем видении потустороннем. Труп панночки и бесовские эти страшилища – сами по себе Божий мир и души людей не видят. Но Вий – это их общий глаз: когда ему помощники его поднимут веки на железном лице, он может увидеть и мир земной, человеческий, как и своё, подземное царство – насквозь, сразу… если душа живая, не выдержав искушения, глянет ответно ему в глаза.
В «Жизни Будды» индийского поэта Ашвагхоша (в переводе К. Д. Бальмонта) целая страница с описанием похожих чудовищ: полузверей, полульвов-полубыков; как Хому Брута, они окружают Будду, сидящего под дубом – но он, просветленный, не видит этих призрачных чудовищ во главе с богом зла и смерти Марой и тремя его дочерями.