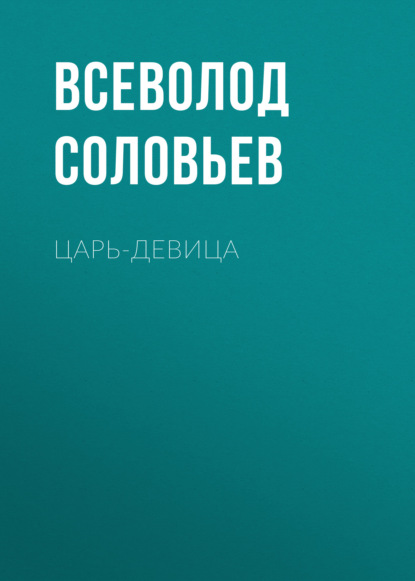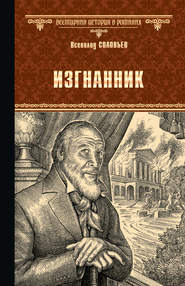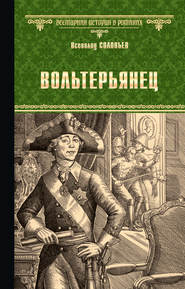По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царь-девица
Серия
Год написания книги
1878
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Люба последовала за своим неизвестным вожаком и скоро очутилась на одной из улиц Медведкова.
Тут было совершенно тихо. Люди заперлись в избы, бродили только собаки, по временам заливаясь оглушительным лаем.
Наконец мужик остановился около одной просторной избы.
– Вот тебе и Лукьяново жилье, – сказал он. – Постучись, он, чай, не спит. Где теперь спать – не до спанья.
– Спасибо, родимый, – прошептала Люба и стала стучать в ворота.
На дворе залаяли собаки, и через несколько мгновений послышался скрип шагов по снегу.
Ворота растворились.
– Кто стучит?
– К Лукьяну надоть, – стараясь придать как можно более грубости своему голосу, ответила Люба, а сама крестилась и мысленно повторяла слова первой пришедшей в голову молитвы.
– Чего тебе? – спросил довольно приятный старческий голос.
– Лукьяна, говорю, Лукьяна! – уже почти со слезами и, чувствуя, что снова у нее подкашиваются ноги, прошептала Люба. – Ты ли Лукьян?
– Да я, а то кто же?
– Лукьян, батюшка, милостивец, спаси меня, защити!
Люба упала на колени перед отворившим ей ворота человеком и хватала его за платье.
– Да стой! Что ты? Откуда? Поди сюда, ничего не разберу – темень-то, вишь, какая. Девка ты, что ли?
– Нет, не девка – парень. Спаси меня, Лукьянушка, не то пропала моя голова… Куда я теперь денусь?
– Иди в избу. Что там такое? Невдомек мне, – проговорил Лукьян, запирая за собою ворота.
Не помня себя, Люба вошла в избу и невольно зажмурилась от яркого света горевшей лучины.
Когда она немного успокоилась, то увидела, что находится в просторной и чистой клети, а перед нею стоит старик с длинной седой бородой, с большим красноватым, но добрым, сразу располагающим лицом.
С изумлением глядел этот старик на Любу, очевидно, дивясь, откуда это забрался к нему такой красавец мальчик.
Люба молчала, чувствовала, что говорить нужно, но не могла произнести ни слова. Вся ее необыкновенная смелость исчезла. Она чувствовала себя теперь совсем беспомощным, вконец замученным и запуганным ребенком. Ей необходимо было спрятаться под чье-нибудь сильное крыло, прижаться к человеку, который мог бы защитить ее.
Она уже не в силах была играть свою смелую мужскую роль. Неудержимо, громко зарыдала она и только сквозь рыдания повторяла:
– Спаси меня, спаси!
Лукьян, стараясь ее успокоить, посадил на лавку. Он понял, что в таком состоянии этот, очевидно, чем-то сильно перепуганный паренек ничего не может теперь объяснить ему.
Скоро ласковый и ободряющий голос старика подействовал на Любу, и она, наконец, в силах была заговорить.
Она передала вымышленную свою историю: сказала, что послана к нему в Медведково старым Еремеем, что живет у Мурьина леса, рассказала, как попала в сумятицу и что ничего не понимает.
Лукьян внимательно ее слушал и пристально глядел на нее, стараясь сообразить, нет ли тут какого-нибудь подвоха. Но какой подвох может быть от этого мальчика? – Люба говорила так искренно.
– Ишь ты! – наконец вымолвил Лукьян и снова улыбнулся. – Чего же это ты так перепугался, трусишка?
– Да как же не перепугаться, дедушка? Ничего не понимаю, скажи, Христа ради, что все это значит? Что тут у вас делается?
– Сказать… ну калякать-то с тобой мне некогда. Там вон мои бабы не спят еще, так накормят тебя; ведь ты, должно, отощал больно, – ну и толкуй там с ними. А мне и спать пора – замаялся!..
Он подошел к маленькой дверце, ведшей в соседнее помещение, и крикнул:
– Мавра, Федосья! Вот накормите прохожего парнишку… Ступай сюда, здесь теплее, – обратился он к Любе, почти втолкнул ее в дверцу, а сам остался в клети.
VII
Баб, с которыми очутилась Люба, было две. Одна из них уже старуха, хозяйка Лукьянова – Мавра, а другая – Федосья, молодая, красивая бабенка, сноха его.
Они сидели в углу на лавке; у обеих лица были встревожены. Несмотря на позднее время, для спанья не было никаких приготовлений.
Женщины с изумлением взглянули на Любу и тотчас приступили с расспросами. – Кто? Откуда? Куда?
Люба, уже оправившаяся от страха своего и волнения, отвечала им обстоятельно. Она сняла с себя шапку; ее голова оказалась обвязанной таким образом, что невозможно было разглядеть длинных волос ее. Коса была пропущена под кафтан. Убегая из перхуловского дома она не успела обрезать себе волосы, да если б и было время, так вряд ли обрезала бы – и жалко, и чересчур уж зазорно.
Она решилась до самой Москвы, до тех пор, пока не предстанет пред ясные очи Царь-девицы, не развязывать головы и при случае ссылаться на сильную головную боль или отмороженные уши.
Так она и теперь сделала, и ее ответ не показался странным, так как, конечно, ни Мавре, ни Федосье не могло прийти в мысль, что перед ними переодетая девушка.
Отвечая на вопросы своих собеседниц, выдумывая им про себя разные истории, Люба едва сдерживала свое нетерпение. Она не в силах была больше находиться в неизвестности, должна же была, наконец, узнать, что такое творится в Медведкове и в какую это кутерьму она попала.
Наконец Лукьяновы бабы решились удовлетворить ее любопытство и стали ей говорить, перебивая друг друга.
Долго ничего она не могла понять из их рассказов, но все же в конце концов кое-как добилась смысла.
Она узнала, что на Медведково навалились раскольщики, что их многое множество в земле русской и что стоят они за старую веру, которую исказили никонианцы.
В вопросах религиозных Мавра и Федосья оказались очень несмышлеными – не могли объяснить Любе, в чем, собственно, дело, в чем разница между старой верой и новой, которую приняли и царь, и бояре, и большая часть народа русского.
– Кто их знает, может, и верно они толкуют, раскольщики, – говорила Мавра. – Точно ведь, как подумаешь – все была вот одна вера православная, – и прежде нас жили люди, да не были же погаными нехристями, умели чтить Бога, и коли бы старая-то вера была неправая, то как все великие святители могли спастись ею?.. А и то рассуждать нужно, – продолжала Мавра, помолчав, – что не будь изъяну какого в старых книгах, с чего бы их отринули и царь, и бояре с патриархом? Темно тут, парень, не распознаешься – не нашего глупого бабьего ума это дело. Вот и Лукьян мой, даром, что землю пашет, а человек бывалый и обучен от писания, в Москве по годам живал, так он говорит, что раскольщики не путно толкуют и по его так выходит, будто истинная, настоящая-то старая вера и есть теперешняя, новая, а их, раскольщиков-то, совсем не старая, а одно затемнение от дьявола исходящее…
Люба внимательно прислушивалась к словам этим, но не могла ничего в толк взять: «Как это такое: старая вера – новая, а новая – старая?» Эх, вот Лукьяна-то нет, он бы рассказал потолковее!
Необыкновенно заинтересовал Любу вопрос о старой и новой вере, так заинтересовал, что она даже, раздумывая об этом, позабыла про свое тяжелое положение, про все страхи.
А Мавра продолжала говорить.
Она горько жаловалась на раскольщиков. Правы ли они там, или виноваты в своей вере, а все же до них жилось в Медведкове благополучно – тишь да гладь, да Божья благодать, – а как стали они показываться – и пошла беда за бедою. Сначала, с год тому будет времени, приходил какой-то старик, остановился в избе у одного медведковского крестьянина, начал собирать вокруг себя народ, толковать о вере, в раскол подговаривать. Кто не послушался его, а кто и послушался: и таких в Медведкове, что стали раскольщиками, собралось немало.
За стариком и другие разные люди стали в Медведково наведываться. Придут, поживут, намутят, Да каждый раз то тех, то других из медведковских с собою в лес сманят – раскол-то больше все по лесам живет. Про все как есть, что там в лесах деется, Лукьяну рассказывал при Мавре один медведковец, Данило, что ушел с раскольщиками, да и опять вернулся восвояси – рассказывал, что верст с пятьдесят от Медведкова есть река, а за рекой лес дикий, большущий. Кругом болота да дряби: на лошадях в том лесу проехать невозможно. В лесу, за рекою, настроено келий десятка с два, и живет в них начальник раскольнический, чернец из Соловецкой обители, Митрофан прозывается. В сборе у того чернеца раскольщиков из разных городов и мест мужского пола, женок, девок и стариц человек с два ста будет. Кельи стоят врознь на большом расстоянии, а на реке, против тех келий, построена мельница; настроены также малые хороминки на столбах, и в них хлеб держат; а пашут раскольщики без лошадей и землю размягчают железными кокотами.