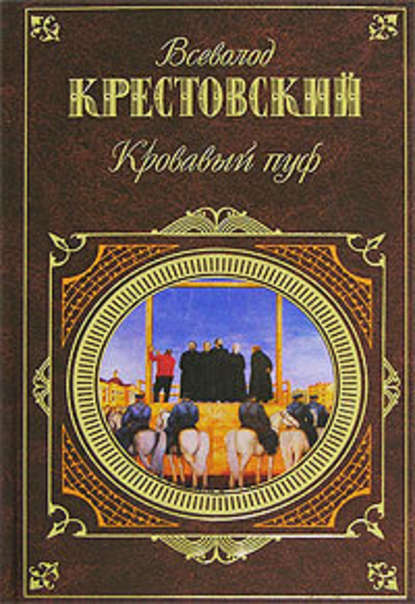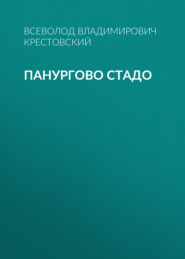По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Панургово стадо
Серия
Год написания книги
1869
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этот вечер он решительно казался самому себе героем.
Губернаторша втайне была о нем того же мнения.
Сам Непомук никакого мнения не выразил, но Шписс вместе с прелестным Анатолем помчались по всему городу и потом в клуб рассказывать интересные новости о том, как они обедали нынче у губернатора вместе с бароном Икс-фон-Саксеном, и что при этом говорил барон, и что они ему говорили, и как он отправился в Пчелиху самолично укрощать крестьянское восстание, и что вообще барон – это un charmant homme [21 - Очаровательный человек (фр.).], и что они от него в восторге.
Весь город Славнобубенск необыкновенно интересовался новоприезжим блистательным гостем. Про него уже кое-где начинали даже ходить своеобразно-фантастические легенды. Однако же, увы! барону не удалось ни в Пчелихе, ни в соседних с нею Коршанах проявить свое гражданское мужество. Прискакав на место, он, вопреки своим ожиданиям, не нашел ни площади, залитой массами народа, ни яростных воплей мятежа, ни кольев, ни дубин с топорами: мужики самым обыденным порядком справлялись у себя, по своим дворам, около домашнего обихода, и ничто ни малейшим образом не подавало намека на то, о чем столь красноречиво извещало донесение. Барона это озадачило. Он застал еще на месте исправника и полковника Пшецыньского, который с кисловатой физиономией собирался, подобру-поздорову, уезжать восвояси.
Дело было таким образом: между крестьянами Пчелихи и Коршань действительно ходили темные слухи о подложной воле, о грамоте «за золотою строчкою». Бдительное начальство тотчас же не упустило, конечно, заявить об этом. Приехал Пшецыньский, велел собрать на площадь всю деревню. Когда деревня была собрана, он энергически стал укрощать бунтовщиков, но бунтовщики, по обыкновению, за бунтовщиков себя не признали, и потому полковник прибегнул к укрощению еще более энергическому с помощью десятка казаков, которые, как известно, имеют обыкновение носить при себе нагайки. Мужики при этом самовольно разбежались по избам, вследствие чего полковник и послал эстафету с требованием военной силы. Мужики, проведавши об этом и вспомня кстати Высокие Снежки, что называется, воем взвыли и послали к полковнику выборных со слезным прошением не губить их животишек. Полковник потребовал выдачи «зачинщиков». Мужики опять взвыли, потому что зачинщиков указать не могли, по той довольно простой причине, что таковых и не было между ними. Кто же пустил слухи о золотой строчке? А Христос его ведает кто! Сказывали, будто в кабаке какой-то прохожий не то парень, не то дворовый человек по виду. А кто сказывал? Сказывал Гаврилка Косой да Степан Бурлаков. Подать сюда Косого и Степана Бурлакова! Они-то, значит, и есть первые распространители смутительных слухов! Подали Гаврилку со Степаном. Вы распространяли? Виновати, батюшка! В колодки их да в острог на следствие! Забили в колодки и отправили под конвоем, а в деревне все тихо и спокойно. Полковник не доверяет и ждет волнения, но о таковом и в помине нет. Полковник все-таки ждет – волнение не приходит. Он начинает сердиться, потом приходит в некоторое уныние, физиономия его окисляется недовольством – и Болеслав Казимирович приказывает закладывать себе лошадей, как вдруг в эту минуту, нежданно-негаданно, приезжает блистательный барон Икс-фон-Саксен, в своем выразительном военном мундире. Полковник поражен, полковник озадачен, но все это длится не более минуты: вдохновение свыше осенило его голову – и с сияющим лицом он почтительнейше докладывает его превосходительству, что сколь ни трудно было ему, Пшецыньскому, при усердном содействии местной власти водворить порядок, тишину и спокойствие, но, наконец, меры кротости совокупно с увещанием св. религии воздействовали – и авторитет власти, стараниями их, восстановлен вполне. Барон остается очень доволен усердием и действиями местных властей и в особенности столь почтительного к его особе полковника и уезжает с твердым намерением исходатайствовать этому усердию достодолжную награду, в сладостной надежде на которую уезжает вслед за ним и Пшецыньский.
VI
Накануне тризны
– Monsieur Хвалынцев! Monsieur Хвалынцев! – закричал и замахал с дрожек monsieur Корытников, встретясь со студентом под вечер на Дворянской улице.
Тот остановился.
Корытников спрыгнул к нему на тротуар.
– Не хотите ли участвовать? Подпишитесь-ка!
– В чем участвовать? На что подписаться прикажете?
– На обед. Мы от всего нашего общества – ну, и администрация тоже – устраиваем обед в клубе, по подписке – пятнадцать рублей с персоны.
– Да ради чего же это?
– Mais comment [22 - Но как (фр.).] «ради чего»! Обед в честь барона фон-Саксена – понятное дело!
– Извините, monsieur Корытников, немножко не понимаю, – недоумевая, возразил Хвалынцев. – Зачем же это в честь барона?
– Ну-у! Voila? la question!.. [23 - Вот в чем вопрос! (фр.).] Надо же выразить ему наше… э-е… наше сочувствие… нашу признательность. Ведь целый край в опасности… Ваши собственные интересы: да и вы сами наконец, comme un membre de la noblesse [24 - Как дворянин (фр.).], можете пострадать, если бы не Саксен, – ведь почем знать – все еще может случиться!..
– Да; но покамест-то он еще ровно ничего не сделал такого, за что мы могли бы заявлять нашу признательность: человек только что едва приехать успел.
– Ну, вот, как вы все понимаете! – чуть-чуть подфыркнул предводитель. – «Не сделал!» ну, все равно сделает! Это все равно. Так как же? Подпишетесь?
– Нет, уж увольте! – суховато поклонился Хвалынцев.
– Mais pourquoi pas? [25 - Но почему бы и нет? (фр.).] – удивился Корытников.
– Да так. Я ведь не из крупных собственников, и, коли вы уж так хотите знать причину, для меня и пятнадцать рублей – деньги.
Предводитель не мог скрыть легкой, пренебрежительной и как бы сожалеющей усмешки.
– А жаль! – процедил он сквозь зубы – Обед проектирован прекрасный, чтоб уж лицом в грязь не ударить: и музыка, и спичи будут, и все такое…
– Ну, желаю вам приятного аппетита, – поклонился Хвалынцев и, повернувшись, пошел себе далее.
«Эге! так вот ты из каких гусей!» – с некоторой злобой оскорбления подумал ему вслед Корытников, в маленьком замешательстве прыгая на свою щегольскую эгоистку.
«И это предводитель!.. Этот пробковый манекен для шармеровских костюмов!» – не без горечи подумал, в свою очередь, Хвалынцев.
– Ба!.. Приятель!.. Дружище!.. Какими судьбами? – растопырив объятия, загородил ему вдруг дорогу маленький плотный человек, плотно выстриженный под гребенку.
– Господи помилуй!.. Устинов!.. Да ты ли это? – радостно изумился Хвалынцев.
– Как видишь! Самолично, своей собственной персоной!.. Вот встреча-то!.. Ну, облобызаемся!
И приятели обнялись, и мягкие, немного влажные губы Устинова влепили три звонких поцелуища в розовые щеки Хвалынцева.
– Ты никуда теперь особенно не торопишься? – спросил Устинов.
– Ровнехонько никуда. Просто вышел себе пошататься.
– Ну, так – правое плечо вперед и – марш ко мне в мое логово! Испием сначала пива, по-старому, а потом потолкуем. Повествуй мне, как, что, почему и зачем и давно ли ты здесь?
– Можно! – согласился Хвалынцев. – Да скажи, пожалуйста, какими ты-то судьбами?
– Э! ангел мой! Я уже тут около года – прямо с университетской скамейки. Учительствую, славнобубенское юношество математикой просвещаю. Славные, черт возьми, ребята! Да, кстати! – ударил он себя по лбу. – Ты ведь, конечно, с нами завтра?
– То есть где это с вами? Когда?
– Да разве не слышал? Завтра, в четыре часа, после вечерни, у Покрова панихида служится по убитым в Снежках.
– А! да?.. Но что ж это только теперь хватились?
– Не знаю доподлинно – так уж вышло. Будут гимназии, семинарии, из офицерства кое-кто и еще кое-кто из порядочных людей… Там будешь?
– Конечно, да! – с охотой подтвердил Хвалынцев. – А ты слышал? завтра обед в клубе.
Устинов кивнул головой.
– А ведь в Питере, пожалуй, и в самом деле подумают, что здесь и невесть какие красные страсти были, особенно как распишут-то! – Через минуту примолвил он в грустном раздумье: – Ведь этого мужика нашего там-то теперь, гляди, хуже чем поляка в стары годы почитать станут!
VII
Панихида
На другой день, в четвертом часу пополудни, в городе было значительное движение, особенно по Большой и Покровской улицам. И там, и здесь катились экипажи, сновали извозчичьи пролетки и безобразные дроги, на которых вмещалось по три и по четыре человека седоков. Дамы, не имеющие счастья принадлежать к сливкам славнобубенского общества, но тем не менее сгорающие желанием узреть интересного барона Икс-фон-Саксена, несмотря на весеннюю слякоть, прогуливались по Большой улице вместе со своими кавалерами, роль которых исполняли по преимуществу господа офицеры Инфляндманландского пехотного полка, вконец затершие господ офицеров батальона внутренней стражи.
День был солнечный, весенне-яркий. Воробьи на голых прутьях да по заборам вертелись и трещали самым задорным образом. Мутные ручьи бежали по улицам. Капель звонко падала с крыш на шапки да на носы прохожему люду. Извозчичьи пролетки и «собственные» экипажи, представительно гремя по камням мостовой, обнажающимся из-под ледяной коры, останавливались перед дверьми разных магазинов, по преимуществу у первого в городе парикмахера-француза, да у единственного перчаточника, и потом, иногда, на минутку, подкатывали к клубному подъезду. Простые же, несуразные дроги направлялись более все на Покровскую улицу. Туда же торопились и пешеходы, между которыми мелькали красные околыши гимназических фуражек и шинели семинаристов.
Двери Покровской церкви были открыты. Кучка народу из разряда «публики» стояла на паперти. Частный пристав уже раза четыре успел как-то озабоченно прокатиться мимо церкви на своих кругленьких, сытых вяточках. Вот взошли на паперть и затерялись в «публике» три-четыре личности, как будто переодетые не в свои костюмы. Вот на щегольской пролетке подкатил маленький черненький Шписс, а через несколько времени показался в церкви и прелестный Анатоль де-Воляй.
Кучка «публики», ожидавшая на паперти, понемногу прибавлялась. В середине стоял высокого роста господин, в синих очках и войлочной, нарочно смятой шляпе, из-под которой в беспорядке падали ему на плечи длинные, густые, курчавые и вдобавок нечесаные волосы. Клинообразная, темно-русая борода как нельзя более гармонировала с прической, и весь костюм его являл собою несколько странное смешение: поверх красной кумачовой рубахи-косоворотки на нем было надето драповое пальто, сшитое некогда с очевидной претензией на моду; широкие триковые панталоны, покроем a? la zouave [26 - Галифе (фр.).] небрежно засунуты в голенища смазных сапог; в руке его красовалась толстая суковатая дубинка, из породы тех, которые выделываются в городе Козьмодемьянске.
Подле него, как моська перед слоном, вертелся, юлил, хлопотал и суетился крошечный, подслеповатый блондинчик, с жидкими, слабыми волосенками и мизерной щепотью какой-то скудной растительности на подбородке. Эта маленькая тщедушная юла была то, что называется золотушный пискунок, и принадлежала к породе дохленьких. Пискунок состоял чем-то вроде добровольного адъютанта или ординарца при особе своего плечистого соседа в кумачовой рубахе и в разговорах относился к нему с приятельским почтением. Остальные члены этой кучки составляли народ, более или менее знакомый и между собою, и с двумя изображенными господами.
Губернаторша втайне была о нем того же мнения.
Сам Непомук никакого мнения не выразил, но Шписс вместе с прелестным Анатолем помчались по всему городу и потом в клуб рассказывать интересные новости о том, как они обедали нынче у губернатора вместе с бароном Икс-фон-Саксеном, и что при этом говорил барон, и что они ему говорили, и как он отправился в Пчелиху самолично укрощать крестьянское восстание, и что вообще барон – это un charmant homme [21 - Очаровательный человек (фр.).], и что они от него в восторге.
Весь город Славнобубенск необыкновенно интересовался новоприезжим блистательным гостем. Про него уже кое-где начинали даже ходить своеобразно-фантастические легенды. Однако же, увы! барону не удалось ни в Пчелихе, ни в соседних с нею Коршанах проявить свое гражданское мужество. Прискакав на место, он, вопреки своим ожиданиям, не нашел ни площади, залитой массами народа, ни яростных воплей мятежа, ни кольев, ни дубин с топорами: мужики самым обыденным порядком справлялись у себя, по своим дворам, около домашнего обихода, и ничто ни малейшим образом не подавало намека на то, о чем столь красноречиво извещало донесение. Барона это озадачило. Он застал еще на месте исправника и полковника Пшецыньского, который с кисловатой физиономией собирался, подобру-поздорову, уезжать восвояси.
Дело было таким образом: между крестьянами Пчелихи и Коршань действительно ходили темные слухи о подложной воле, о грамоте «за золотою строчкою». Бдительное начальство тотчас же не упустило, конечно, заявить об этом. Приехал Пшецыньский, велел собрать на площадь всю деревню. Когда деревня была собрана, он энергически стал укрощать бунтовщиков, но бунтовщики, по обыкновению, за бунтовщиков себя не признали, и потому полковник прибегнул к укрощению еще более энергическому с помощью десятка казаков, которые, как известно, имеют обыкновение носить при себе нагайки. Мужики при этом самовольно разбежались по избам, вследствие чего полковник и послал эстафету с требованием военной силы. Мужики, проведавши об этом и вспомня кстати Высокие Снежки, что называется, воем взвыли и послали к полковнику выборных со слезным прошением не губить их животишек. Полковник потребовал выдачи «зачинщиков». Мужики опять взвыли, потому что зачинщиков указать не могли, по той довольно простой причине, что таковых и не было между ними. Кто же пустил слухи о золотой строчке? А Христос его ведает кто! Сказывали, будто в кабаке какой-то прохожий не то парень, не то дворовый человек по виду. А кто сказывал? Сказывал Гаврилка Косой да Степан Бурлаков. Подать сюда Косого и Степана Бурлакова! Они-то, значит, и есть первые распространители смутительных слухов! Подали Гаврилку со Степаном. Вы распространяли? Виновати, батюшка! В колодки их да в острог на следствие! Забили в колодки и отправили под конвоем, а в деревне все тихо и спокойно. Полковник не доверяет и ждет волнения, но о таковом и в помине нет. Полковник все-таки ждет – волнение не приходит. Он начинает сердиться, потом приходит в некоторое уныние, физиономия его окисляется недовольством – и Болеслав Казимирович приказывает закладывать себе лошадей, как вдруг в эту минуту, нежданно-негаданно, приезжает блистательный барон Икс-фон-Саксен, в своем выразительном военном мундире. Полковник поражен, полковник озадачен, но все это длится не более минуты: вдохновение свыше осенило его голову – и с сияющим лицом он почтительнейше докладывает его превосходительству, что сколь ни трудно было ему, Пшецыньскому, при усердном содействии местной власти водворить порядок, тишину и спокойствие, но, наконец, меры кротости совокупно с увещанием св. религии воздействовали – и авторитет власти, стараниями их, восстановлен вполне. Барон остается очень доволен усердием и действиями местных властей и в особенности столь почтительного к его особе полковника и уезжает с твердым намерением исходатайствовать этому усердию достодолжную награду, в сладостной надежде на которую уезжает вслед за ним и Пшецыньский.
VI
Накануне тризны
– Monsieur Хвалынцев! Monsieur Хвалынцев! – закричал и замахал с дрожек monsieur Корытников, встретясь со студентом под вечер на Дворянской улице.
Тот остановился.
Корытников спрыгнул к нему на тротуар.
– Не хотите ли участвовать? Подпишитесь-ка!
– В чем участвовать? На что подписаться прикажете?
– На обед. Мы от всего нашего общества – ну, и администрация тоже – устраиваем обед в клубе, по подписке – пятнадцать рублей с персоны.
– Да ради чего же это?
– Mais comment [22 - Но как (фр.).] «ради чего»! Обед в честь барона фон-Саксена – понятное дело!
– Извините, monsieur Корытников, немножко не понимаю, – недоумевая, возразил Хвалынцев. – Зачем же это в честь барона?
– Ну-у! Voila? la question!.. [23 - Вот в чем вопрос! (фр.).] Надо же выразить ему наше… э-е… наше сочувствие… нашу признательность. Ведь целый край в опасности… Ваши собственные интересы: да и вы сами наконец, comme un membre de la noblesse [24 - Как дворянин (фр.).], можете пострадать, если бы не Саксен, – ведь почем знать – все еще может случиться!..
– Да; но покамест-то он еще ровно ничего не сделал такого, за что мы могли бы заявлять нашу признательность: человек только что едва приехать успел.
– Ну, вот, как вы все понимаете! – чуть-чуть подфыркнул предводитель. – «Не сделал!» ну, все равно сделает! Это все равно. Так как же? Подпишетесь?
– Нет, уж увольте! – суховато поклонился Хвалынцев.
– Mais pourquoi pas? [25 - Но почему бы и нет? (фр.).] – удивился Корытников.
– Да так. Я ведь не из крупных собственников, и, коли вы уж так хотите знать причину, для меня и пятнадцать рублей – деньги.
Предводитель не мог скрыть легкой, пренебрежительной и как бы сожалеющей усмешки.
– А жаль! – процедил он сквозь зубы – Обед проектирован прекрасный, чтоб уж лицом в грязь не ударить: и музыка, и спичи будут, и все такое…
– Ну, желаю вам приятного аппетита, – поклонился Хвалынцев и, повернувшись, пошел себе далее.
«Эге! так вот ты из каких гусей!» – с некоторой злобой оскорбления подумал ему вслед Корытников, в маленьком замешательстве прыгая на свою щегольскую эгоистку.
«И это предводитель!.. Этот пробковый манекен для шармеровских костюмов!» – не без горечи подумал, в свою очередь, Хвалынцев.
– Ба!.. Приятель!.. Дружище!.. Какими судьбами? – растопырив объятия, загородил ему вдруг дорогу маленький плотный человек, плотно выстриженный под гребенку.
– Господи помилуй!.. Устинов!.. Да ты ли это? – радостно изумился Хвалынцев.
– Как видишь! Самолично, своей собственной персоной!.. Вот встреча-то!.. Ну, облобызаемся!
И приятели обнялись, и мягкие, немного влажные губы Устинова влепили три звонких поцелуища в розовые щеки Хвалынцева.
– Ты никуда теперь особенно не торопишься? – спросил Устинов.
– Ровнехонько никуда. Просто вышел себе пошататься.
– Ну, так – правое плечо вперед и – марш ко мне в мое логово! Испием сначала пива, по-старому, а потом потолкуем. Повествуй мне, как, что, почему и зачем и давно ли ты здесь?
– Можно! – согласился Хвалынцев. – Да скажи, пожалуйста, какими ты-то судьбами?
– Э! ангел мой! Я уже тут около года – прямо с университетской скамейки. Учительствую, славнобубенское юношество математикой просвещаю. Славные, черт возьми, ребята! Да, кстати! – ударил он себя по лбу. – Ты ведь, конечно, с нами завтра?
– То есть где это с вами? Когда?
– Да разве не слышал? Завтра, в четыре часа, после вечерни, у Покрова панихида служится по убитым в Снежках.
– А! да?.. Но что ж это только теперь хватились?
– Не знаю доподлинно – так уж вышло. Будут гимназии, семинарии, из офицерства кое-кто и еще кое-кто из порядочных людей… Там будешь?
– Конечно, да! – с охотой подтвердил Хвалынцев. – А ты слышал? завтра обед в клубе.
Устинов кивнул головой.
– А ведь в Питере, пожалуй, и в самом деле подумают, что здесь и невесть какие красные страсти были, особенно как распишут-то! – Через минуту примолвил он в грустном раздумье: – Ведь этого мужика нашего там-то теперь, гляди, хуже чем поляка в стары годы почитать станут!
VII
Панихида
На другой день, в четвертом часу пополудни, в городе было значительное движение, особенно по Большой и Покровской улицам. И там, и здесь катились экипажи, сновали извозчичьи пролетки и безобразные дроги, на которых вмещалось по три и по четыре человека седоков. Дамы, не имеющие счастья принадлежать к сливкам славнобубенского общества, но тем не менее сгорающие желанием узреть интересного барона Икс-фон-Саксена, несмотря на весеннюю слякоть, прогуливались по Большой улице вместе со своими кавалерами, роль которых исполняли по преимуществу господа офицеры Инфляндманландского пехотного полка, вконец затершие господ офицеров батальона внутренней стражи.
День был солнечный, весенне-яркий. Воробьи на голых прутьях да по заборам вертелись и трещали самым задорным образом. Мутные ручьи бежали по улицам. Капель звонко падала с крыш на шапки да на носы прохожему люду. Извозчичьи пролетки и «собственные» экипажи, представительно гремя по камням мостовой, обнажающимся из-под ледяной коры, останавливались перед дверьми разных магазинов, по преимуществу у первого в городе парикмахера-француза, да у единственного перчаточника, и потом, иногда, на минутку, подкатывали к клубному подъезду. Простые же, несуразные дроги направлялись более все на Покровскую улицу. Туда же торопились и пешеходы, между которыми мелькали красные околыши гимназических фуражек и шинели семинаристов.
Двери Покровской церкви были открыты. Кучка народу из разряда «публики» стояла на паперти. Частный пристав уже раза четыре успел как-то озабоченно прокатиться мимо церкви на своих кругленьких, сытых вяточках. Вот взошли на паперть и затерялись в «публике» три-четыре личности, как будто переодетые не в свои костюмы. Вот на щегольской пролетке подкатил маленький черненький Шписс, а через несколько времени показался в церкви и прелестный Анатоль де-Воляй.
Кучка «публики», ожидавшая на паперти, понемногу прибавлялась. В середине стоял высокого роста господин, в синих очках и войлочной, нарочно смятой шляпе, из-под которой в беспорядке падали ему на плечи длинные, густые, курчавые и вдобавок нечесаные волосы. Клинообразная, темно-русая борода как нельзя более гармонировала с прической, и весь костюм его являл собою несколько странное смешение: поверх красной кумачовой рубахи-косоворотки на нем было надето драповое пальто, сшитое некогда с очевидной претензией на моду; широкие триковые панталоны, покроем a? la zouave [26 - Галифе (фр.).] небрежно засунуты в голенища смазных сапог; в руке его красовалась толстая суковатая дубинка, из породы тех, которые выделываются в городе Козьмодемьянске.
Подле него, как моська перед слоном, вертелся, юлил, хлопотал и суетился крошечный, подслеповатый блондинчик, с жидкими, слабыми волосенками и мизерной щепотью какой-то скудной растительности на подбородке. Эта маленькая тщедушная юла была то, что называется золотушный пискунок, и принадлежала к породе дохленьких. Пискунок состоял чем-то вроде добровольного адъютанта или ординарца при особе своего плечистого соседа в кумачовой рубахе и в разговорах относился к нему с приятельским почтением. Остальные члены этой кучки составляли народ, более или менее знакомый и между собою, и с двумя изображенными господами.