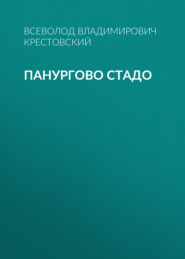По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербургские трущобы. Том 2
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ДОКТОР КАТЦЕЛЬ
Планы компании были весьма широки. Она не намеревалась ограничить круг своей деятельности пределами одного только Петербурга; напротив того, впоследствии, при развитии дела, когда оно уже прочно стало бы на ноги, предполагалось завести своих агентов в Москве, в Риге, в Нижнем, в Харькове, в Одессе и в Варшаве. Herr Катцель предлагал было основать фабрику не в Петербурге, а в Лондоне или в Париже, но Каллаш решительно воспротивился этой мысли.
– Здесь, – говорил он, – и нигде более, как только здесь в Петербурге, можно взяться за такое дело! Разве вы не знаете, что такое лондонская полиция? Там, как ни хитри, но едва ли нам, иностранцам, удастся провести английских сыщиков! В Париже – то же самое. А здесь мы все-таки у себя дома, здесь мы пользуемся известным положением в свете; хорошей репутацией, наконец, на случай обыска, ни при одном из нас, а также и в квартирах наших никогда не будет найдено ничего подозрительного.
Победа, в этом случае, осталась на стороне графа, тем более, что все почти необходимые материалы были уже тайно провезены из-за границы доктором и графом, в их последнюю поездку…
Роль главного фабриканта-производителя взял на себя Катцель, который, в сущности, был господин весьма замечательного свойства. Тип лица не оставлял ни малейших сомнений в чисто еврейском происхождении доктора, а его вглядчивые, слегка прищуренные глаза и высокий лоб ручались за обилие ума и способностей. Возвратясь в Россию с докторским дипломом венского университета, он первым долгом подверг себя экзамену в присутствии медицинского совета и, выдержав его блистательным образом, получил право лечения в России. Это была необходимая заручка со стороны законных препятствий, и стоило только преодолеть их, чтобы начать уже действовать широко и обильно, с полной уверенностью. Доктор, между прочим, был очень хороший химик, любил науку, любил свое призвание и свое лекарское дело; но при всем этом – странная вещь! – он находил какую-то сласть, какое-то увлекательное упоение в том, чтобы посвящать свои знания и свою жизнь мошенническим проделкам. Он сам очень хорошо сознавал в себе эту наклонность и называл ее неодолимою страстью, болезненным развитием воли – словом, какою-то манией, чем-то вроде однопредметного помешательства.
– По своему развитию, по своим убеждениям, – говорил он однажды Каллашу в одну из интимных, откровенных минут, – я постоянно стараюсь быть очень гуманным человеком, но инстинкты, природные-то инстинкты во мне отвратительны. Я знаю это, хотя и всякому другому дам их в себе заметить. Но что же мне делать, если, кроме самого себя, я никого не люблю!..
– А человечество? – заметил с улыбкою Каллаш.
– Да, человечество я точно люблю, но это какая-то абстрактная, безразличная любовь… И какое дело человечеству, люблю ли я его или нет?.. Вот, например, деньги – это другое дело! Деньги я люблю до обожания, во всех их видах и качествах. И для добычи денег, – говорил он с увлечением, – я ни над чем не задумаюсь, ни перед чем не остановлюсь!
– Как? – воскликнул Каллаш. – Даже и перед шпионством, даже перед продажею брата своего!.. Но ведь таким образом, извините за откровенность, наше сообщество с вами может быть небезопасно.
– Мм… могло бы, – произнес Herr Катцель, упирая на частицу «бы» и нимало не смутившись восклицанием графа. – Но вот видите ли, мой милый друг, этот путь, полагаю, менее выгоден: на нем никогда не заработаешь столько денег, сколько, при добром успехе, мы можем заработать на нашем предприятии, поэтому я его презираю, тем более, что это и не сходствует с моими убеждениями. Нельзя в одно и то же время быть волком и лисицею.
– Но этот путь гораздо спокойнее и безопаснее, тогда как наш основан на ужаснейшем риске, – возразил Каллаш.
– Спокойствие… риск… Да знаете ли, что я презираю какое бы то ни было спокойствие и страстно боготворю один только риск! – воскликнул он с неподдельным порывом увлечения. – Риск!.. Да ведь в риске для меня все! В риске – жизнь, в нем страсть!.. А спокойствие… Помилуйте, да если бы я хотел только спокойствия и безопасности, мне не для чего было бы делаться мошенником. Pardon за откровенный цинизм этого выражения! Для спокойствия мне было бы совершенно достаточно моей науки, моих знаний, моего докторского диплома наконец; но в том-то и дело, что даже в науке я люблю ее таинственную да темную сторону, которая ни на минуту не дает успокоиться человеку, держит его в вечно напряженном лихорадочном состоянии и заставляет исследовать, пытаться, доискиваться тех тонких, неуловимых своих сторон, которые, на первый взгляд, кажутся недоступными человеку. А знаете ли вы, – продолжал доктор, под наитием какого-то вдохновенного экстаза, – знаете ли вы, что это за гордо-разумное, что за упоительное блаженство кроется в том мгновении, когда вы после таких мучительных нравственных страданий, после нескольких лихорадочно-бессонных ночей, убеждаетесь, наконец, что вы точно воистину доискались до того, чего вы искали, что вы сделали открытие?.. Пусть оно будет мало, пускай незначительно, ничтожно это открытие, но все же и оно ведь вносит свою лепту в общую массу знаний, все же и в него ведь вы полагали свою душу, страсть, свою разумную волю! О, это – минуты высшего нравственного удовлетворения, которые я не променяю ни на какое спокойствие в мире!
– Стало, вы можете быть вполне удовлетворены одною вашей страстью к науке? – возразил ему Каллаш.
– Нет, не могу! – решительно воскликнул Катцель. – Не могу потому, что в моей безобразно-страстной натуре лежат еще иные инстинкты. Теории Лафатера и Галля до сих пор еще не исследованы как должно, хотя многие признают их только научным пуфом. Я мало занимался этим предметом, – продолжал доктор, – но весьма был бы склонен думать, что во мне развита шишка тонкого злодейства и шишка приобретения. По крайней мере я знаю, что страсть к этим двум началам составляет во мне какую-то болезненную манию, и, как ни старался, я никогда не мог одолеть ее, поэтому я ей покоряюсь.
– Убить человека, ради того только, чтоб убить, я никогда не способен, – говорил он самым искренним тоном, остановясь перед графом, – но убить его во имя науки, во имя таинственных процессов и законов органической жизни – готов каждую минуту, особенно когда мне за это хорошо заплатят. С первых самостоятельных шагов моих на поприще науки меня всегда как-то тянуло к исследованиям всевозможных ядов, и я добился-таки кой-каких счастливых результатов, но я люблю делать окончательный, так сказать, полный генеральный анализ не над животными, а над людьми, и – я вам скажу между нами – мне удалось таким образом, в разных местах Европы, изучить четыре превосходных яда, и каждый раз не без материальной пользы для своей собственной особы, а однажды, во время моего путешествия по Италии, отправил ad padres, посредством очень тонкого и медленного яда, одного весьма богатого, но чересчур уже долговечного дядю, за что от единственного мота-наследника его получил полновесный гонорар – ни более, ни менее, как пятьдесят тысяч лир, то есть двенадцать тысяч пятьсот рублей серебром на русские деньги. Вы – человек порядочный, человек без предрассудков, и притом же мой товарищ и компаньон по общему предприятию, поэтому я с вами и откровенен так – благо уж нашла на меня такая откровенная минута.
– Ну, а здесь, в Петербурге, вам еще не приходилось производить такие исследования? – спросил его граф.
– Пока еще нет, – спокойно ответил доктор, – но здесь удалось мне исследовать один новый, изобретенный собственно мною состав, который имеет свойство производить быструю и в высшей степени сладострастную экзальтацию. Я наблюдал его на одном из целомудреннейших и красивейших экземпляров двуногой породы, и результат вышел бесподобный. Вы слыхали когда-нибудь о Бероевой? – неожиданно спросил Катцель.
– Мм… кое-что слышал… Это, кажется, та, что хотела убить молодого Шадурского? – отнесся к нему Каллаш.
– Она самая, – подтвердил доктор. – И она-то была моим экземпляром.
Тот поглядел на него с изумлением.
– Ничего мудреного нету, – возразил Катцель, как бы в ответ на его мину. – Я большой приятель с известной вам генеральшей фон Шпильце, и притом же ее постоянный домашний доктор: у нее почти нет от меня секретов.
– Но… послушайте! – перебил его граф. – Я вот чего не понимаю: с такой головой, с таким характером, с такими знаниями вы служите какой-нибудь фон Шпильце, исполняете ее заказы и тому подобное, тогда как не вы, а она, по-настоящему, должна бы быть у вас что называется в услужении.
Доктор горько-иронически усмехнулся.
– Это все должно бы быть так, и могло бы быть так! – проговорил он, с глубоким вздохом. – Да, могло бы быть, если б… если б мне прихватить где-нибудь немножко побольше характера относительно собственной своей особы… Знаете ли, мне сдается, что я вечно буду в зависимости от какой-нибудь Шпильце, наперекор здравой логике. Это потому опять-таки, что характера для самого себя не хватает. Вы знаете ли, что, например, делал я до сих пор со всеми денежными кушами, которые получал за границей? Тотчас же спускал в рулетку и оставался нищим… В последний раз, перед приездом в Россию, я помышлял уже о том, чтобы отправить ad padres самого себя, как вдруг случай столкнул с Амалией Потаповной, она меня выручила – ну, и… закабалила. Она мне дала первые средства жить, через свои заказы… Разбогатей я сегодня – я сегодня же знать ее не захочу, я сам закабалю ее, а завтра спущу все до нитки – и снова в зависимости от какого-нибудь подобного субъекта – все равно, будет ли он в юбке или в панталонах… В конце концов выходит только то, что я их всех ненавижу и презираю, но более чем их – клянусь вам! – презираю и ненавижу самого себя.
Граф Каллаш, хотя и сам был из людей бывалых и мало чему удивляющихся, однако, не без некоторого содрогания после всех этих признаний поглядел на доктора Катцеля. «А ведь фигурка-то – маленькая, мизерненькая, и такая невинная, безобидная», – невольно пришло ему на ум в ту минуту, когда наш ученый, покончив свою исповедь, которою он нимало не рисовался и не бравурничал, взял и спокойно закурил графскую сигару.
«Таков-то наш обер-фабрикант», – не без улыбки подумал в заключение граф Каллаш, внимательно созерцая фигурку доктора.
LXV
ФАБРИКА ТЕМНЫХ БУМАЖЕК
В сенях Устиньи Самсоновны находилась, от полу до потолка, сплошная перегородка, имевшая вид дощатой стены. Четыре доски этой перегородки задвигались за остальные четыре, по той же самой системе, как в иных магазинах стеклянные рамы у витрин. Отодвижные доски служили потайной дверью в темный тайничок, где собственно и крылась важнейшая суть хлыстовского приюта. Пол этого тайничка подымался на скрытых петлях, в виде люка, и открывал под собою деревянную лестницу, которая вела в подъизбище, где постоянно господствовала непроницаемая темнота. Однажды в сутки, Устинья Самсоновна зажигала восковую свечу и спускалась в это подполье. Там таилась хлыстовская молельня. Помещение было довольно просторное, земляной пол весьма плотно утрамбован; стены, служившие фундаментом самой избы, сложены из плитняка известкового и имели с лишком сажень вышины. По стенам стояли скамьи, а в переднем углу была прилажена большая полка, и на ней, между двумя канделябрами, помещались четыре намалеванные образа хлыстовской секты: посередине, в виде Саваофа, изображен был вышний гость Данило Филиппович, вправо от него – стародубский богочеловек спаситель Иван Тимофеевич, а по левой стороне – лик «богородицы», матери Ивана Тимофеевича – Ирины Нестеровой. Этот последний образ представлял древнюю старуху, написанную в виде известного православного Знамения пресвятой богородицы. Далее виднелся еще один женский лик, называемый «богиней» или «дочерью бога».
Устинья Самсоновна зажигала канделябры, вздувала уголек в ручной медной кадильнице и начинала свое «моление»: «Дай к нам господи, дай Исуса Христа!»
Это подъизбище было перегорожено на две половины: большую, где собственно и находилась молельня, и малую, представлявшую комнатку сажени в две длиною и около сажени в ширину. В этой последней совершались «переоболоченья» братий, то есть переодеванья перед началом общих «радений», с которыми впоследствии познакомится читатель. Тут же, к одному боку была прилажена небольшая железная печь, доставлявшая в зимнюю пору достаточное количество тепла на целое подъизбище. И вот в этом-то малом отделении хлыстовской молельни в одно утро появилась, о-бок с железною печкой, еще одна, тоже железная, небольшая химическая печь, которую с помощью Фомки-блаженного приладили здесь Herr Катцель и граф Каллаш. Все необходимые материалы переправлялись сюда посредством Фомушки и самих членов, день за день, почти незаметно, в разную пору дня и ночи, и притом разными путями, и проносились порознь, то разобранные по составным своим частям, то упакованные в какой-нибудь ящик, дорожный саквояж и тому подобное. Эта переноска заняла более двух недель времени, и таким образом исподволь и мало-помалу все увеличивалось тут количество весьма разнообразных предметов, которые обратили наконец подземную комнату в маленькую химическую лабораторию. Тут стал рабочий стол с химическими весами посредине, заставленный разными фарфоровыми ступками, пробирными трубочками, лампой Берцелиуса и тому подобными предметами; на полках поместились реторты да колбы и ящик с анилиновыми красками; другой угол заняли пресс, вальки для накатывания этих красок и литографские камни, а за ними – изящная прочная шкатулка с секретом хранила в себе металлические плитки, с выгравированными из них изображениями русских кредитных билетов, начиная с трех и кончая сторублевым достоинством. От одной стены до другой протянулись тонкие шнурочки, на которых должны были просушиваться приуготовленные бумажки, и посреди всех этих предметов, как некий маг и волшебник, предстоял доктор Катцель в серой блузе и красной феске, то вычисляя на грифельной доске эквиваленты, то с глубоким, сосредоточенным вниманием следя за реактивом какого-нибудь состава; наблюдал осадки или растирал в ступке необходимую ему краску. Доктор не решался сразу приступить к выделке ассигнаций – он все выискивал и добивался таких результатов, которые устраняли бы всякое подозрение в фальши его произведений, и потому долгое время занимался одними только исследованиями красок и составов, стараясь в то же время довести бумагу до того вида и свойства, каким отличаются неподдельные русские кредитки. Часто даже по целым суткам и более он безвыходно оставался в своей лаборатории, упорно преследуя свою цель, забывал и сон и пищу, терял даже потребность в свежем воздухе, пока наконец в голову не начинал ударять страшный прилив крови, и организм изнемогал от столь долгого напряжения. Тогда Катцель переодевался в обычное платье и, послав предварительно либо Устинью Самсоновну, либо Паисия Логиныча оглядеть местность – нет ли там лишнего прохожего народу, – выходил на свежий воздух и пробирался к своей городской квартире, стараясь избирать по возможности различные пути для того, чтобы не примелькалась кому-нибудь его физиономия, что могло бы, пожалуй, случиться при путешествии постоянно одной и той же дорогой. Три-четыре дня отдыха придавали доктору новые силы, с запасом которых он снова спускался в свою подземную лабораторию. Остальные члены, то порознь, то вместе, посещали его раз в неделю и приносили с собою добрый запасец красного вина, которым обер-фабрикант в минуты усталости подкреплял свои силы.
Обитатели огородной избы благодаря Фомушке познакомились и даже сблизились настолько с членами будущего темного банка, насколько являлось это необходимостью при деле, которое производилось с их ведома и притом в их собственном доме. Устинья Самсоновна при встрече своих гостей каждый раз не переставала сердобольно обращаться к ним с вопросами: «Что же, батюшки-братцы, скоро ль гонение-то на нас будет? Поскорей бы хотелося!» – Или осведомлялась, когда именно думают они семя артихристово рассеять по лицу земли. Старец Паисий в этих случаях больше все помалчивал, только улыбался им с великим благодушием да отвешивал поклон, исполненный большого достоинства.
Между тем одно время Фомушка совсем исчез куда-то и очень долго не показывался ни у графа Каллаша, ни в избе Устиньи Самсоновны. Обстоятельство это немало-таки озаботило графа, ибо Фомушка был для него весьма нужным подспорьем в затеянном деле, как известно уже читателю. И только впоследствии было узнано, что раб божий Фома обретается в тюремном замке, по подозрению в краже. Время этого отсутствия совпадало с его арестом. Каким образом мог приключиться с Фомушкой такой неладный фокус, граф Каллаш не мог себе в точности представить, потому что Фомушка, в ожидании будущих благ, получал от него по мелочам весьма изрядное количество денег, которых вполне хватило бы для него, чтобы жить не нуждаючись и даже с некоторой, возможной для него роскошью.
– Мой милый граф, – рассудительно возразил ему, однажды Катцель, когда тот развил перед ним подобные соображения свои касательно Фомушки, – мы с вами имеем, конечно, средства, чтобы жить не нуждаючись и даже с возможной для нас роскошью, и однако ж… однако ж мы продолжаем мошенничать, из желания иметь как можно больше, чтобы жить еще роскошнее. То же самое и ваш милый Фомушка, которого я вполне уважаю.
– Такова уже натура, и против натуры не пойдешь! – заключил Herr Катцель.
И он был прав. Действительно, такова уже была у Фомушки натура, что отказаться от одного мошенничества ради другого он чувствовал себя не в состоянии. Ему бы хотелось обоим разом предаваться. Видит он, что дело с бумажками еще только подготовляется, что заработки от него принадлежат пока будущему, и думает: «Что же я стану задаром время-то золотое терять?» И поэтому отнюдь не терял его даром. Хотя он и точно получал от графа порядочные деньжишки, однако подобного рода получения как-то мало удовлетворяли блаженного. «Это что за деньги! – размышлял он порою. – Это все равно что ты их на улице нашел: сами собою, задаром в твой карман приплывают. Это, по-настоящему, не деньги, а вот деньги, которые ты сам своей сметкой, своими мозгами да своими руками добудешь себе – ну, тут уж выйдет статья иная!» Старые привычки брали-таки свою силу над Фомушкой-блаженным. Бесшабашная, пройдошная натура его не могла помириться с тем относительно спокойным и довольственным существованием, какое доставляли ему подачки графа Каллаша. Эти старые привычки тянули его на свою сторону, заставляли по-прежнему простаивать, купно с Макридой и Касьянчиком, на паперти Сенного Спаса, корчить из себя юродивого, таскаться по перекусочным да по разным трущобам, сговариваться с Гречкой об убийстве ростовщика Морденки, и, наконец, ни с того, ни с сего, ради одной только привычки, украсть при выходе от всенощной бумажник купца Толстопятого – обстоятельство, как известно, доведшее его до «дядина дома», из коего освободился он благодаря лишь ходатайству великосветской сердобольницы. Тут уж именно действовала одна только «натура», одни лишь привычные инстинкты, и больше ничего.
По выходе из тюрьмы, живя в богадельне, он наведывался к графу Каллашу, но – увы! – банк темных бумажек не приносил еще никаких положительных результатов. Доктор Катцель все еще делал опыты, достигая разных усовершенствований, изготовлял пробные ассигнации, но… эти ассигнации все еще не подходили к искомому идеалу. Хотя каждая новая проба значительно приближалась к нему, однако до тех пор, пока этот заветный идеал не удовлетворен в совершенстве, доктор Катцель не решался выпустить ни одного экземпляра из своей лаборатории. Он упорно боролся с нетерпением своих сотоварищей, особенно же с Каллашем; дело доходило до крупных и горячих разговоров, и все-таки в конце концов настаивал на своем, и те ему уступали.
– Если уж делать, то делать так, чтобы это было достойно порядочного человека! – убеждал он их в минуты подобных споров. – Иначе, возьмите вашего Фомку, и пускай он, а не я, занимается в этой лаборатории! Грубых подделок и без того довольно гуляет по свету, а я хочу сделать так, чтобы потом, в случае печального исхода, мне, ученому химику, не пришлось бы краснеть за свое изделие и за свое знание. Для вас же будет лучше, – говорил он, – если потом вы сами не отличите их от настоящих: тогда мы будем свободно и смело являться с ними хотя бы в государственный банк, для размена!
Этот энергический жар и уверенность, с которыми приводил доктор свои доказательства, и это совершенствование, замечавшееся в кредитках после каждого нового опыта, убеждали членов в справедливости его слов и доводов, так что они единодушно решались ждать того времени, когда наконец труды и усилия обер-фабриканта увенчаются полным успехом.
Приходилось ждать и Фомушке, хотя он и не был посвящен в эти споры и успехи доктора. Но столь долгое ожидание погоды, сидя у моря, начинало уже немножко надоедать ему. «Видно, дело не путевое, и надо так полагать, что ничего иэ него не вытрясется! Ничего клевого не выйдет!» – стал иногда подумывать Фомушка с кислой улыбкой сомнения, близкого к полному разочарованью.
LXVI
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА – ПОСЛЕДНЯЯ МЫСЛЬ
Когда в обыкновенной тюремной «мышеловке» арестантку привезли с Конной площади обратно в тюрьму, она была уже очень слаба и едва-едва лишь на ногах держалась.
Минуты, пережитые ею в последнее утро, казалось, совокупили в себе все те страдания, которые перенесла она со времени первой катастрофы до того мгновенья, пока дверца фургона не скрыла ее наконец от тысячи глаз любопытной толпы. Но ко всему, что в течение долгого времени накопилось в груди этой женщины, путешествие на Конную площадь надбавило теперь последнюю гирю, которую уже не в состоянии был выдержать организм ее. Нервическое потрясение оказалось столь велико, что из тюремной конторы Бероеву прямо отправили в лазарет, который для женщин помещается в верхнем этаже их «дядиной дачи».
Вскоре у нее начался значительный упадок сил и с каждым часом все шел прогрессивнее. Сознание, впрочем, ни на минуту не покидало больную – рассудок ее был совершенно ясен.
Пришел доктор, пощупал пульс и весьма сомнительно покачал головою.
– Ну, что?.. Как? – спросила его тут же у постели лазаретная надзирательница.
– Да что… Очень плохо.
Бероева открыла глаза и жадно старалась ловить полушепот этих людей.
– Но все-таки есть надежда? – спросила надзирательница.
Планы компании были весьма широки. Она не намеревалась ограничить круг своей деятельности пределами одного только Петербурга; напротив того, впоследствии, при развитии дела, когда оно уже прочно стало бы на ноги, предполагалось завести своих агентов в Москве, в Риге, в Нижнем, в Харькове, в Одессе и в Варшаве. Herr Катцель предлагал было основать фабрику не в Петербурге, а в Лондоне или в Париже, но Каллаш решительно воспротивился этой мысли.
– Здесь, – говорил он, – и нигде более, как только здесь в Петербурге, можно взяться за такое дело! Разве вы не знаете, что такое лондонская полиция? Там, как ни хитри, но едва ли нам, иностранцам, удастся провести английских сыщиков! В Париже – то же самое. А здесь мы все-таки у себя дома, здесь мы пользуемся известным положением в свете; хорошей репутацией, наконец, на случай обыска, ни при одном из нас, а также и в квартирах наших никогда не будет найдено ничего подозрительного.
Победа, в этом случае, осталась на стороне графа, тем более, что все почти необходимые материалы были уже тайно провезены из-за границы доктором и графом, в их последнюю поездку…
Роль главного фабриканта-производителя взял на себя Катцель, который, в сущности, был господин весьма замечательного свойства. Тип лица не оставлял ни малейших сомнений в чисто еврейском происхождении доктора, а его вглядчивые, слегка прищуренные глаза и высокий лоб ручались за обилие ума и способностей. Возвратясь в Россию с докторским дипломом венского университета, он первым долгом подверг себя экзамену в присутствии медицинского совета и, выдержав его блистательным образом, получил право лечения в России. Это была необходимая заручка со стороны законных препятствий, и стоило только преодолеть их, чтобы начать уже действовать широко и обильно, с полной уверенностью. Доктор, между прочим, был очень хороший химик, любил науку, любил свое призвание и свое лекарское дело; но при всем этом – странная вещь! – он находил какую-то сласть, какое-то увлекательное упоение в том, чтобы посвящать свои знания и свою жизнь мошенническим проделкам. Он сам очень хорошо сознавал в себе эту наклонность и называл ее неодолимою страстью, болезненным развитием воли – словом, какою-то манией, чем-то вроде однопредметного помешательства.
– По своему развитию, по своим убеждениям, – говорил он однажды Каллашу в одну из интимных, откровенных минут, – я постоянно стараюсь быть очень гуманным человеком, но инстинкты, природные-то инстинкты во мне отвратительны. Я знаю это, хотя и всякому другому дам их в себе заметить. Но что же мне делать, если, кроме самого себя, я никого не люблю!..
– А человечество? – заметил с улыбкою Каллаш.
– Да, человечество я точно люблю, но это какая-то абстрактная, безразличная любовь… И какое дело человечеству, люблю ли я его или нет?.. Вот, например, деньги – это другое дело! Деньги я люблю до обожания, во всех их видах и качествах. И для добычи денег, – говорил он с увлечением, – я ни над чем не задумаюсь, ни перед чем не остановлюсь!
– Как? – воскликнул Каллаш. – Даже и перед шпионством, даже перед продажею брата своего!.. Но ведь таким образом, извините за откровенность, наше сообщество с вами может быть небезопасно.
– Мм… могло бы, – произнес Herr Катцель, упирая на частицу «бы» и нимало не смутившись восклицанием графа. – Но вот видите ли, мой милый друг, этот путь, полагаю, менее выгоден: на нем никогда не заработаешь столько денег, сколько, при добром успехе, мы можем заработать на нашем предприятии, поэтому я его презираю, тем более, что это и не сходствует с моими убеждениями. Нельзя в одно и то же время быть волком и лисицею.
– Но этот путь гораздо спокойнее и безопаснее, тогда как наш основан на ужаснейшем риске, – возразил Каллаш.
– Спокойствие… риск… Да знаете ли, что я презираю какое бы то ни было спокойствие и страстно боготворю один только риск! – воскликнул он с неподдельным порывом увлечения. – Риск!.. Да ведь в риске для меня все! В риске – жизнь, в нем страсть!.. А спокойствие… Помилуйте, да если бы я хотел только спокойствия и безопасности, мне не для чего было бы делаться мошенником. Pardon за откровенный цинизм этого выражения! Для спокойствия мне было бы совершенно достаточно моей науки, моих знаний, моего докторского диплома наконец; но в том-то и дело, что даже в науке я люблю ее таинственную да темную сторону, которая ни на минуту не дает успокоиться человеку, держит его в вечно напряженном лихорадочном состоянии и заставляет исследовать, пытаться, доискиваться тех тонких, неуловимых своих сторон, которые, на первый взгляд, кажутся недоступными человеку. А знаете ли вы, – продолжал доктор, под наитием какого-то вдохновенного экстаза, – знаете ли вы, что это за гордо-разумное, что за упоительное блаженство кроется в том мгновении, когда вы после таких мучительных нравственных страданий, после нескольких лихорадочно-бессонных ночей, убеждаетесь, наконец, что вы точно воистину доискались до того, чего вы искали, что вы сделали открытие?.. Пусть оно будет мало, пускай незначительно, ничтожно это открытие, но все же и оно ведь вносит свою лепту в общую массу знаний, все же и в него ведь вы полагали свою душу, страсть, свою разумную волю! О, это – минуты высшего нравственного удовлетворения, которые я не променяю ни на какое спокойствие в мире!
– Стало, вы можете быть вполне удовлетворены одною вашей страстью к науке? – возразил ему Каллаш.
– Нет, не могу! – решительно воскликнул Катцель. – Не могу потому, что в моей безобразно-страстной натуре лежат еще иные инстинкты. Теории Лафатера и Галля до сих пор еще не исследованы как должно, хотя многие признают их только научным пуфом. Я мало занимался этим предметом, – продолжал доктор, – но весьма был бы склонен думать, что во мне развита шишка тонкого злодейства и шишка приобретения. По крайней мере я знаю, что страсть к этим двум началам составляет во мне какую-то болезненную манию, и, как ни старался, я никогда не мог одолеть ее, поэтому я ей покоряюсь.
– Убить человека, ради того только, чтоб убить, я никогда не способен, – говорил он самым искренним тоном, остановясь перед графом, – но убить его во имя науки, во имя таинственных процессов и законов органической жизни – готов каждую минуту, особенно когда мне за это хорошо заплатят. С первых самостоятельных шагов моих на поприще науки меня всегда как-то тянуло к исследованиям всевозможных ядов, и я добился-таки кой-каких счастливых результатов, но я люблю делать окончательный, так сказать, полный генеральный анализ не над животными, а над людьми, и – я вам скажу между нами – мне удалось таким образом, в разных местах Европы, изучить четыре превосходных яда, и каждый раз не без материальной пользы для своей собственной особы, а однажды, во время моего путешествия по Италии, отправил ad padres, посредством очень тонкого и медленного яда, одного весьма богатого, но чересчур уже долговечного дядю, за что от единственного мота-наследника его получил полновесный гонорар – ни более, ни менее, как пятьдесят тысяч лир, то есть двенадцать тысяч пятьсот рублей серебром на русские деньги. Вы – человек порядочный, человек без предрассудков, и притом же мой товарищ и компаньон по общему предприятию, поэтому я с вами и откровенен так – благо уж нашла на меня такая откровенная минута.
– Ну, а здесь, в Петербурге, вам еще не приходилось производить такие исследования? – спросил его граф.
– Пока еще нет, – спокойно ответил доктор, – но здесь удалось мне исследовать один новый, изобретенный собственно мною состав, который имеет свойство производить быструю и в высшей степени сладострастную экзальтацию. Я наблюдал его на одном из целомудреннейших и красивейших экземпляров двуногой породы, и результат вышел бесподобный. Вы слыхали когда-нибудь о Бероевой? – неожиданно спросил Катцель.
– Мм… кое-что слышал… Это, кажется, та, что хотела убить молодого Шадурского? – отнесся к нему Каллаш.
– Она самая, – подтвердил доктор. – И она-то была моим экземпляром.
Тот поглядел на него с изумлением.
– Ничего мудреного нету, – возразил Катцель, как бы в ответ на его мину. – Я большой приятель с известной вам генеральшей фон Шпильце, и притом же ее постоянный домашний доктор: у нее почти нет от меня секретов.
– Но… послушайте! – перебил его граф. – Я вот чего не понимаю: с такой головой, с таким характером, с такими знаниями вы служите какой-нибудь фон Шпильце, исполняете ее заказы и тому подобное, тогда как не вы, а она, по-настоящему, должна бы быть у вас что называется в услужении.
Доктор горько-иронически усмехнулся.
– Это все должно бы быть так, и могло бы быть так! – проговорил он, с глубоким вздохом. – Да, могло бы быть, если б… если б мне прихватить где-нибудь немножко побольше характера относительно собственной своей особы… Знаете ли, мне сдается, что я вечно буду в зависимости от какой-нибудь Шпильце, наперекор здравой логике. Это потому опять-таки, что характера для самого себя не хватает. Вы знаете ли, что, например, делал я до сих пор со всеми денежными кушами, которые получал за границей? Тотчас же спускал в рулетку и оставался нищим… В последний раз, перед приездом в Россию, я помышлял уже о том, чтобы отправить ad padres самого себя, как вдруг случай столкнул с Амалией Потаповной, она меня выручила – ну, и… закабалила. Она мне дала первые средства жить, через свои заказы… Разбогатей я сегодня – я сегодня же знать ее не захочу, я сам закабалю ее, а завтра спущу все до нитки – и снова в зависимости от какого-нибудь подобного субъекта – все равно, будет ли он в юбке или в панталонах… В конце концов выходит только то, что я их всех ненавижу и презираю, но более чем их – клянусь вам! – презираю и ненавижу самого себя.
Граф Каллаш, хотя и сам был из людей бывалых и мало чему удивляющихся, однако, не без некоторого содрогания после всех этих признаний поглядел на доктора Катцеля. «А ведь фигурка-то – маленькая, мизерненькая, и такая невинная, безобидная», – невольно пришло ему на ум в ту минуту, когда наш ученый, покончив свою исповедь, которою он нимало не рисовался и не бравурничал, взял и спокойно закурил графскую сигару.
«Таков-то наш обер-фабрикант», – не без улыбки подумал в заключение граф Каллаш, внимательно созерцая фигурку доктора.
LXV
ФАБРИКА ТЕМНЫХ БУМАЖЕК
В сенях Устиньи Самсоновны находилась, от полу до потолка, сплошная перегородка, имевшая вид дощатой стены. Четыре доски этой перегородки задвигались за остальные четыре, по той же самой системе, как в иных магазинах стеклянные рамы у витрин. Отодвижные доски служили потайной дверью в темный тайничок, где собственно и крылась важнейшая суть хлыстовского приюта. Пол этого тайничка подымался на скрытых петлях, в виде люка, и открывал под собою деревянную лестницу, которая вела в подъизбище, где постоянно господствовала непроницаемая темнота. Однажды в сутки, Устинья Самсоновна зажигала восковую свечу и спускалась в это подполье. Там таилась хлыстовская молельня. Помещение было довольно просторное, земляной пол весьма плотно утрамбован; стены, служившие фундаментом самой избы, сложены из плитняка известкового и имели с лишком сажень вышины. По стенам стояли скамьи, а в переднем углу была прилажена большая полка, и на ней, между двумя канделябрами, помещались четыре намалеванные образа хлыстовской секты: посередине, в виде Саваофа, изображен был вышний гость Данило Филиппович, вправо от него – стародубский богочеловек спаситель Иван Тимофеевич, а по левой стороне – лик «богородицы», матери Ивана Тимофеевича – Ирины Нестеровой. Этот последний образ представлял древнюю старуху, написанную в виде известного православного Знамения пресвятой богородицы. Далее виднелся еще один женский лик, называемый «богиней» или «дочерью бога».
Устинья Самсоновна зажигала канделябры, вздувала уголек в ручной медной кадильнице и начинала свое «моление»: «Дай к нам господи, дай Исуса Христа!»
Это подъизбище было перегорожено на две половины: большую, где собственно и находилась молельня, и малую, представлявшую комнатку сажени в две длиною и около сажени в ширину. В этой последней совершались «переоболоченья» братий, то есть переодеванья перед началом общих «радений», с которыми впоследствии познакомится читатель. Тут же, к одному боку была прилажена небольшая железная печь, доставлявшая в зимнюю пору достаточное количество тепла на целое подъизбище. И вот в этом-то малом отделении хлыстовской молельни в одно утро появилась, о-бок с железною печкой, еще одна, тоже железная, небольшая химическая печь, которую с помощью Фомки-блаженного приладили здесь Herr Катцель и граф Каллаш. Все необходимые материалы переправлялись сюда посредством Фомушки и самих членов, день за день, почти незаметно, в разную пору дня и ночи, и притом разными путями, и проносились порознь, то разобранные по составным своим частям, то упакованные в какой-нибудь ящик, дорожный саквояж и тому подобное. Эта переноска заняла более двух недель времени, и таким образом исподволь и мало-помалу все увеличивалось тут количество весьма разнообразных предметов, которые обратили наконец подземную комнату в маленькую химическую лабораторию. Тут стал рабочий стол с химическими весами посредине, заставленный разными фарфоровыми ступками, пробирными трубочками, лампой Берцелиуса и тому подобными предметами; на полках поместились реторты да колбы и ящик с анилиновыми красками; другой угол заняли пресс, вальки для накатывания этих красок и литографские камни, а за ними – изящная прочная шкатулка с секретом хранила в себе металлические плитки, с выгравированными из них изображениями русских кредитных билетов, начиная с трех и кончая сторублевым достоинством. От одной стены до другой протянулись тонкие шнурочки, на которых должны были просушиваться приуготовленные бумажки, и посреди всех этих предметов, как некий маг и волшебник, предстоял доктор Катцель в серой блузе и красной феске, то вычисляя на грифельной доске эквиваленты, то с глубоким, сосредоточенным вниманием следя за реактивом какого-нибудь состава; наблюдал осадки или растирал в ступке необходимую ему краску. Доктор не решался сразу приступить к выделке ассигнаций – он все выискивал и добивался таких результатов, которые устраняли бы всякое подозрение в фальши его произведений, и потому долгое время занимался одними только исследованиями красок и составов, стараясь в то же время довести бумагу до того вида и свойства, каким отличаются неподдельные русские кредитки. Часто даже по целым суткам и более он безвыходно оставался в своей лаборатории, упорно преследуя свою цель, забывал и сон и пищу, терял даже потребность в свежем воздухе, пока наконец в голову не начинал ударять страшный прилив крови, и организм изнемогал от столь долгого напряжения. Тогда Катцель переодевался в обычное платье и, послав предварительно либо Устинью Самсоновну, либо Паисия Логиныча оглядеть местность – нет ли там лишнего прохожего народу, – выходил на свежий воздух и пробирался к своей городской квартире, стараясь избирать по возможности различные пути для того, чтобы не примелькалась кому-нибудь его физиономия, что могло бы, пожалуй, случиться при путешествии постоянно одной и той же дорогой. Три-четыре дня отдыха придавали доктору новые силы, с запасом которых он снова спускался в свою подземную лабораторию. Остальные члены, то порознь, то вместе, посещали его раз в неделю и приносили с собою добрый запасец красного вина, которым обер-фабрикант в минуты усталости подкреплял свои силы.
Обитатели огородной избы благодаря Фомушке познакомились и даже сблизились настолько с членами будущего темного банка, насколько являлось это необходимостью при деле, которое производилось с их ведома и притом в их собственном доме. Устинья Самсоновна при встрече своих гостей каждый раз не переставала сердобольно обращаться к ним с вопросами: «Что же, батюшки-братцы, скоро ль гонение-то на нас будет? Поскорей бы хотелося!» – Или осведомлялась, когда именно думают они семя артихристово рассеять по лицу земли. Старец Паисий в этих случаях больше все помалчивал, только улыбался им с великим благодушием да отвешивал поклон, исполненный большого достоинства.
Между тем одно время Фомушка совсем исчез куда-то и очень долго не показывался ни у графа Каллаша, ни в избе Устиньи Самсоновны. Обстоятельство это немало-таки озаботило графа, ибо Фомушка был для него весьма нужным подспорьем в затеянном деле, как известно уже читателю. И только впоследствии было узнано, что раб божий Фома обретается в тюремном замке, по подозрению в краже. Время этого отсутствия совпадало с его арестом. Каким образом мог приключиться с Фомушкой такой неладный фокус, граф Каллаш не мог себе в точности представить, потому что Фомушка, в ожидании будущих благ, получал от него по мелочам весьма изрядное количество денег, которых вполне хватило бы для него, чтобы жить не нуждаючись и даже с некоторой, возможной для него роскошью.
– Мой милый граф, – рассудительно возразил ему, однажды Катцель, когда тот развил перед ним подобные соображения свои касательно Фомушки, – мы с вами имеем, конечно, средства, чтобы жить не нуждаючись и даже с возможной для нас роскошью, и однако ж… однако ж мы продолжаем мошенничать, из желания иметь как можно больше, чтобы жить еще роскошнее. То же самое и ваш милый Фомушка, которого я вполне уважаю.
– Такова уже натура, и против натуры не пойдешь! – заключил Herr Катцель.
И он был прав. Действительно, такова уже была у Фомушки натура, что отказаться от одного мошенничества ради другого он чувствовал себя не в состоянии. Ему бы хотелось обоим разом предаваться. Видит он, что дело с бумажками еще только подготовляется, что заработки от него принадлежат пока будущему, и думает: «Что же я стану задаром время-то золотое терять?» И поэтому отнюдь не терял его даром. Хотя он и точно получал от графа порядочные деньжишки, однако подобного рода получения как-то мало удовлетворяли блаженного. «Это что за деньги! – размышлял он порою. – Это все равно что ты их на улице нашел: сами собою, задаром в твой карман приплывают. Это, по-настоящему, не деньги, а вот деньги, которые ты сам своей сметкой, своими мозгами да своими руками добудешь себе – ну, тут уж выйдет статья иная!» Старые привычки брали-таки свою силу над Фомушкой-блаженным. Бесшабашная, пройдошная натура его не могла помириться с тем относительно спокойным и довольственным существованием, какое доставляли ему подачки графа Каллаша. Эти старые привычки тянули его на свою сторону, заставляли по-прежнему простаивать, купно с Макридой и Касьянчиком, на паперти Сенного Спаса, корчить из себя юродивого, таскаться по перекусочным да по разным трущобам, сговариваться с Гречкой об убийстве ростовщика Морденки, и, наконец, ни с того, ни с сего, ради одной только привычки, украсть при выходе от всенощной бумажник купца Толстопятого – обстоятельство, как известно, доведшее его до «дядина дома», из коего освободился он благодаря лишь ходатайству великосветской сердобольницы. Тут уж именно действовала одна только «натура», одни лишь привычные инстинкты, и больше ничего.
По выходе из тюрьмы, живя в богадельне, он наведывался к графу Каллашу, но – увы! – банк темных бумажек не приносил еще никаких положительных результатов. Доктор Катцель все еще делал опыты, достигая разных усовершенствований, изготовлял пробные ассигнации, но… эти ассигнации все еще не подходили к искомому идеалу. Хотя каждая новая проба значительно приближалась к нему, однако до тех пор, пока этот заветный идеал не удовлетворен в совершенстве, доктор Катцель не решался выпустить ни одного экземпляра из своей лаборатории. Он упорно боролся с нетерпением своих сотоварищей, особенно же с Каллашем; дело доходило до крупных и горячих разговоров, и все-таки в конце концов настаивал на своем, и те ему уступали.
– Если уж делать, то делать так, чтобы это было достойно порядочного человека! – убеждал он их в минуты подобных споров. – Иначе, возьмите вашего Фомку, и пускай он, а не я, занимается в этой лаборатории! Грубых подделок и без того довольно гуляет по свету, а я хочу сделать так, чтобы потом, в случае печального исхода, мне, ученому химику, не пришлось бы краснеть за свое изделие и за свое знание. Для вас же будет лучше, – говорил он, – если потом вы сами не отличите их от настоящих: тогда мы будем свободно и смело являться с ними хотя бы в государственный банк, для размена!
Этот энергический жар и уверенность, с которыми приводил доктор свои доказательства, и это совершенствование, замечавшееся в кредитках после каждого нового опыта, убеждали членов в справедливости его слов и доводов, так что они единодушно решались ждать того времени, когда наконец труды и усилия обер-фабриканта увенчаются полным успехом.
Приходилось ждать и Фомушке, хотя он и не был посвящен в эти споры и успехи доктора. Но столь долгое ожидание погоды, сидя у моря, начинало уже немножко надоедать ему. «Видно, дело не путевое, и надо так полагать, что ничего иэ него не вытрясется! Ничего клевого не выйдет!» – стал иногда подумывать Фомушка с кислой улыбкой сомнения, близкого к полному разочарованью.
LXVI
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА – ПОСЛЕДНЯЯ МЫСЛЬ
Когда в обыкновенной тюремной «мышеловке» арестантку привезли с Конной площади обратно в тюрьму, она была уже очень слаба и едва-едва лишь на ногах держалась.
Минуты, пережитые ею в последнее утро, казалось, совокупили в себе все те страдания, которые перенесла она со времени первой катастрофы до того мгновенья, пока дверца фургона не скрыла ее наконец от тысячи глаз любопытной толпы. Но ко всему, что в течение долгого времени накопилось в груди этой женщины, путешествие на Конную площадь надбавило теперь последнюю гирю, которую уже не в состоянии был выдержать организм ее. Нервическое потрясение оказалось столь велико, что из тюремной конторы Бероеву прямо отправили в лазарет, который для женщин помещается в верхнем этаже их «дядиной дачи».
Вскоре у нее начался значительный упадок сил и с каждым часом все шел прогрессивнее. Сознание, впрочем, ни на минуту не покидало больную – рассудок ее был совершенно ясен.
Пришел доктор, пощупал пульс и весьма сомнительно покачал головою.
– Ну, что?.. Как? – спросила его тут же у постели лазаретная надзирательница.
– Да что… Очень плохо.
Бероева открыла глаза и жадно старалась ловить полушепот этих людей.
– Но все-таки есть надежда? – спросила надзирательница.