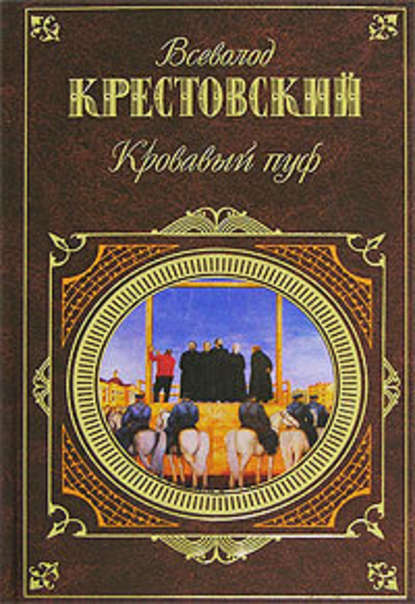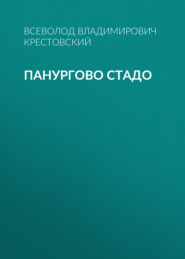По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Панургово стадо
Серия
Год написания книги
1869
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что, моя милушка? Что, голубчик?
– Уж и песню наконец нельзя петь!.. Это чистые глупости! Это деспотизм!
– Песню, дружок, пой сколько хочешь, а мерзостей петь да слушать не следует.
– Ну, хорошо, хорошо!.. – с многозначительною сухостью подхватила девушка, – я с тобой потом поговорю! Теперь не время.
Это походило на какую-то угрозу. Взволнованный старик в замешательстве, с невыразимою тоскою бросил тихий взгляд на свое детище. По всему было видно, что он любит свою дочку беспредельно, до безумия, до всякой слабости.
– Ну, ну, полно, – забормотал он, словно бы извиняясь. – Ну, Господь с тобой, Нюточка!.. Разве я тебя стесняю в чем!.. Пой себе, коли охота такая, только дай мне уйти прежде, я уж этих песен слушать не стану.
И с тихим, подавленным вздохом он ушел из комнаты.
Полояров снова было запел как ни в чем не бывало, но Татьяна Николаевна тотчас же поднялась с места, мигнула Устинову и громко стала прощаться со своей подругой. Вслед за ней поднялись и Устинов с Хвалынцевым. Подвиляньский, обладавший большим тактом, чем его приятель Полояров, перестал аккомпанировать и тоже взялся за шляпу.
Лидинька Затц подошла к Ардальону и попросила проводить себя.
– Ну, нет! уж увольте! – отклонился он, значительно поморщась, и вслед за тем прибавил тише чем вполголоса: – Я хотел бы лучше уж здесь как-нибудь остаться на ночь.
Лидинька бросила на него взгляд вопросительного и несколько ревнивого свойства.
– Это для чего-с? Скажите, пожалуйста?! – тихо прошипела она очень нервичным голосом.
– Да так… не хотелось бы дома, – замялся Ардальон, – неровно и в самом деле полиция… жандармы… Уж лучше эти дни кое-где по чужим местам переждать бы… Спокойнее!
– Ступайте к нам ночевать! – охотно и поспешно предложила Затц.
– Да ведь ваш благоверный…
– Это ровно ничего не значит… Он теперь в клубе… Мы, кажется, всегда вам рады.
– Ну, ин быть по-вашему! Куда ни шло! – махнул наконец рукой Ардальон после некоторого колебания и стал прощаться.
Лубянская крепко сжала его руку, и Устинов заметил, что она с каким-то опасением, полустрахом и полунадеждой проводила его за порог тревожными и влюбленными глазами.
На душе Хвалынцева, особенно после маленькой истории с песней, было как-то смутно и неловко, словно бы он попал в какое место не вовремя и совсем некстати, так что, только очутившись на свежем воздухе, грудь его вздохнула легко, широко и спокойно.
Вышли на улицу почти все разом. Подвиляньский с доктором кликнули извозчика и укатили. Полояров закутался, поднял воротник пальто, упрятал в него нос и бороду и низко надвинул на глаза свою шляпу. Очевидно, после сегодняшних арестов он даже и ночью боялся быть узнанным. Стриженая дама повисла на его руке.
– Анцыфров! – обернулся он на своего адъютанта, – я нынче не ночую дома – можешь располагаться свободно.
– Как же так?.. Ведь хотели же вместе?.. Это, собственно, как же? – заегозил оторопевший пискунок, который совсем не ожидал такого пассажа.
– Как знаешь… Мне-то что!
– Но… как же это так, ей-Богу!.. Одному-то?.. Уж лучше бы как-нибудь вместе… Я тоже не хочу домой к себе… У меня тоже ведь не безопасно… Уж, право, лучше бы вместе…
– Ну, ладно! Проваливай к черту! – порешил Полояров и, без дальнейших церемоний, пошел себе со своей дамой, не обращая на злосчастного пискунка ни малейшего внимания.
Тот постоял с минуту в самой затруднительной нерешительности и, нечего делать, скрепя сердце, потрусил кое-как восвояси.
Ночь стояла ясная, тихая и сухая, с легким морозцем.
– А хорошо бы пройтись!.. у меня, ей-Богу, даже голова заболела, – сказала Стрешнева, и Хвалынцев предложил ей руку, а Устинов пошел рядом с ней сбоку. Крытые дрожки шагом ехали сзади.
– А, кажется, недолюбливает вас этот Полояров, – начал Хвалынцев.
– Обоих недолюбливает, – улыбнулась девушка, – и меня, и Андрея Павлыча; но меня более.
– За что же такая немилость?
– А так. Мне, видите ли, немножко известно его прошлое.
– Но разве это прошлое такого свойства, что за него можно не любить тех, кто знает его?
– Отчасти, да. Мне, конечно, Бог с ним, какое мне до него дело! Но Анюту жаль. Она добрая и хорошая девушка, а этот барин ее с толку сбивает. Ведь он у всех у них в ранге какого-то идола, полубога. Ведь ему здесь поклоняются.
– Но… странное дело! – заметил студент. – Сколько могу судить, он, кажется, и не особенно умен.
– Э, помилуйте! А наглость-то на что? Ведь у него что ни имя, то дурак; что ни деятель не его покроя, то подлец, продажный человек. Голос к тому же у него очень громкий, вот и кричит; а с этим куда как легко сделать себя умником! Вся хитрость в том, чтобы других всех ругать дураками. Ведь тут кто раньше встал да палку взял – тот и капрал.
– Ну, а прошлое-то его какое? – полюбопытствовал Хвалынцев.
– По питейной части служил, когда Верхохлебов в Сольгородской губернии откуп держал, а потом очень недолгое время становым был, но… что называется, с «начальством не поладил». Впрочем, Ардальон Михайлович о своем прошлом не любит распространяться.
– А теперь-то он что же? – продолжал Хвалынцев, которого после всего этого заинтересовала несколько личность Полоярова.
– Теперь?.. А вот, великим деятелем стал, статьи разные пишет, в журналы посылает.
– Ну, и печатают?
– Отчего ж не печатать! Поди-ко, сперва раскуси человека! Ведь там не знают его. Но это бы все Бог с ним! А мне Анюту жаль и старика-то жаль. Хороший старик.
– Да неужели же она не видит и не знает?
– Какое! и слушать ничего не хочет, и не верит. Ведь он, – говорю вам, бог для них. Совсем забрал в руки девочку, так что в последнее время со мною даже гораздо холоднее стала, а уж на что были друзьями.
Вскоре наши путники дошли до дому, где жила Стрешнева со своей теткой. На прощанье она совсем просто пригласила Хвалынцева зайти как-нибудь к ним, буде есть охота. Тот был рад и с живейшею благодарностию принял ее приглашение. После этого он вернулся домой, в свою гостиницу, чувствуя себя так легко и светло на душе и так много довольный даже и нынешним вечером, и собою, и своим приятелем, и ею – этою хорошей Татьяной Николаевной.
XI
Кто предполагает и кто располагает
На другое утро Петр Петрович составил и чистенько переписал коротенькую докладную записку о разрешении литературно-музыкального вечера в пользу его школы; затем напялил свой отставной мундир, со всеми регалиями, и отправился, помолясь, к губернаторше.
Констанция Александровна деловые приемы свои назначала обыкновенно во втором часу. Гораздо ранее этого времени Петр Петрович сидел уже на стуле в ее приемной. Он попросил доложить о себе. Лакей угрюмо покосился на него и хотел было пройти мимо; но майор тоже знал достодолжную в этих случаях сноровку и потому, подмигнув лакею, сунул ему в руку двугривенничек. Ее превосходительство выслала сказать майору, чтоб он обождал – и Петр Петрович ждал, испытывая томительное состояние просительской скуки.
Несколько раз мимо его промелькнула горничная; дежурный чиновник промчался куда-то; гувернантка повела на прогулку пару детей madame Гржиб, а майор все ждет себе, оправляясь да покрякивая при проходе каждого лица, и все с надеждой устремляет взоры на дверь, ведущую в покой губернаторши.
– Уж и песню наконец нельзя петь!.. Это чистые глупости! Это деспотизм!
– Песню, дружок, пой сколько хочешь, а мерзостей петь да слушать не следует.
– Ну, хорошо, хорошо!.. – с многозначительною сухостью подхватила девушка, – я с тобой потом поговорю! Теперь не время.
Это походило на какую-то угрозу. Взволнованный старик в замешательстве, с невыразимою тоскою бросил тихий взгляд на свое детище. По всему было видно, что он любит свою дочку беспредельно, до безумия, до всякой слабости.
– Ну, ну, полно, – забормотал он, словно бы извиняясь. – Ну, Господь с тобой, Нюточка!.. Разве я тебя стесняю в чем!.. Пой себе, коли охота такая, только дай мне уйти прежде, я уж этих песен слушать не стану.
И с тихим, подавленным вздохом он ушел из комнаты.
Полояров снова было запел как ни в чем не бывало, но Татьяна Николаевна тотчас же поднялась с места, мигнула Устинову и громко стала прощаться со своей подругой. Вслед за ней поднялись и Устинов с Хвалынцевым. Подвиляньский, обладавший большим тактом, чем его приятель Полояров, перестал аккомпанировать и тоже взялся за шляпу.
Лидинька Затц подошла к Ардальону и попросила проводить себя.
– Ну, нет! уж увольте! – отклонился он, значительно поморщась, и вслед за тем прибавил тише чем вполголоса: – Я хотел бы лучше уж здесь как-нибудь остаться на ночь.
Лидинька бросила на него взгляд вопросительного и несколько ревнивого свойства.
– Это для чего-с? Скажите, пожалуйста?! – тихо прошипела она очень нервичным голосом.
– Да так… не хотелось бы дома, – замялся Ардальон, – неровно и в самом деле полиция… жандармы… Уж лучше эти дни кое-где по чужим местам переждать бы… Спокойнее!
– Ступайте к нам ночевать! – охотно и поспешно предложила Затц.
– Да ведь ваш благоверный…
– Это ровно ничего не значит… Он теперь в клубе… Мы, кажется, всегда вам рады.
– Ну, ин быть по-вашему! Куда ни шло! – махнул наконец рукой Ардальон после некоторого колебания и стал прощаться.
Лубянская крепко сжала его руку, и Устинов заметил, что она с каким-то опасением, полустрахом и полунадеждой проводила его за порог тревожными и влюбленными глазами.
На душе Хвалынцева, особенно после маленькой истории с песней, было как-то смутно и неловко, словно бы он попал в какое место не вовремя и совсем некстати, так что, только очутившись на свежем воздухе, грудь его вздохнула легко, широко и спокойно.
Вышли на улицу почти все разом. Подвиляньский с доктором кликнули извозчика и укатили. Полояров закутался, поднял воротник пальто, упрятал в него нос и бороду и низко надвинул на глаза свою шляпу. Очевидно, после сегодняшних арестов он даже и ночью боялся быть узнанным. Стриженая дама повисла на его руке.
– Анцыфров! – обернулся он на своего адъютанта, – я нынче не ночую дома – можешь располагаться свободно.
– Как же так?.. Ведь хотели же вместе?.. Это, собственно, как же? – заегозил оторопевший пискунок, который совсем не ожидал такого пассажа.
– Как знаешь… Мне-то что!
– Но… как же это так, ей-Богу!.. Одному-то?.. Уж лучше бы как-нибудь вместе… Я тоже не хочу домой к себе… У меня тоже ведь не безопасно… Уж, право, лучше бы вместе…
– Ну, ладно! Проваливай к черту! – порешил Полояров и, без дальнейших церемоний, пошел себе со своей дамой, не обращая на злосчастного пискунка ни малейшего внимания.
Тот постоял с минуту в самой затруднительной нерешительности и, нечего делать, скрепя сердце, потрусил кое-как восвояси.
Ночь стояла ясная, тихая и сухая, с легким морозцем.
– А хорошо бы пройтись!.. у меня, ей-Богу, даже голова заболела, – сказала Стрешнева, и Хвалынцев предложил ей руку, а Устинов пошел рядом с ней сбоку. Крытые дрожки шагом ехали сзади.
– А, кажется, недолюбливает вас этот Полояров, – начал Хвалынцев.
– Обоих недолюбливает, – улыбнулась девушка, – и меня, и Андрея Павлыча; но меня более.
– За что же такая немилость?
– А так. Мне, видите ли, немножко известно его прошлое.
– Но разве это прошлое такого свойства, что за него можно не любить тех, кто знает его?
– Отчасти, да. Мне, конечно, Бог с ним, какое мне до него дело! Но Анюту жаль. Она добрая и хорошая девушка, а этот барин ее с толку сбивает. Ведь он у всех у них в ранге какого-то идола, полубога. Ведь ему здесь поклоняются.
– Но… странное дело! – заметил студент. – Сколько могу судить, он, кажется, и не особенно умен.
– Э, помилуйте! А наглость-то на что? Ведь у него что ни имя, то дурак; что ни деятель не его покроя, то подлец, продажный человек. Голос к тому же у него очень громкий, вот и кричит; а с этим куда как легко сделать себя умником! Вся хитрость в том, чтобы других всех ругать дураками. Ведь тут кто раньше встал да палку взял – тот и капрал.
– Ну, а прошлое-то его какое? – полюбопытствовал Хвалынцев.
– По питейной части служил, когда Верхохлебов в Сольгородской губернии откуп держал, а потом очень недолгое время становым был, но… что называется, с «начальством не поладил». Впрочем, Ардальон Михайлович о своем прошлом не любит распространяться.
– А теперь-то он что же? – продолжал Хвалынцев, которого после всего этого заинтересовала несколько личность Полоярова.
– Теперь?.. А вот, великим деятелем стал, статьи разные пишет, в журналы посылает.
– Ну, и печатают?
– Отчего ж не печатать! Поди-ко, сперва раскуси человека! Ведь там не знают его. Но это бы все Бог с ним! А мне Анюту жаль и старика-то жаль. Хороший старик.
– Да неужели же она не видит и не знает?
– Какое! и слушать ничего не хочет, и не верит. Ведь он, – говорю вам, бог для них. Совсем забрал в руки девочку, так что в последнее время со мною даже гораздо холоднее стала, а уж на что были друзьями.
Вскоре наши путники дошли до дому, где жила Стрешнева со своей теткой. На прощанье она совсем просто пригласила Хвалынцева зайти как-нибудь к ним, буде есть охота. Тот был рад и с живейшею благодарностию принял ее приглашение. После этого он вернулся домой, в свою гостиницу, чувствуя себя так легко и светло на душе и так много довольный даже и нынешним вечером, и собою, и своим приятелем, и ею – этою хорошей Татьяной Николаевной.
XI
Кто предполагает и кто располагает
На другое утро Петр Петрович составил и чистенько переписал коротенькую докладную записку о разрешении литературно-музыкального вечера в пользу его школы; затем напялил свой отставной мундир, со всеми регалиями, и отправился, помолясь, к губернаторше.
Констанция Александровна деловые приемы свои назначала обыкновенно во втором часу. Гораздо ранее этого времени Петр Петрович сидел уже на стуле в ее приемной. Он попросил доложить о себе. Лакей угрюмо покосился на него и хотел было пройти мимо; но майор тоже знал достодолжную в этих случаях сноровку и потому, подмигнув лакею, сунул ему в руку двугривенничек. Ее превосходительство выслала сказать майору, чтоб он обождал – и Петр Петрович ждал, испытывая томительное состояние просительской скуки.
Несколько раз мимо его промелькнула горничная; дежурный чиновник промчался куда-то; гувернантка повела на прогулку пару детей madame Гржиб, а майор все ждет себе, оправляясь да покрякивая при проходе каждого лица, и все с надеждой устремляет взоры на дверь, ведущую в покой губернаторши.