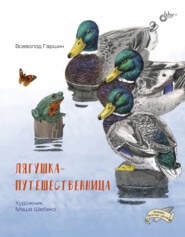По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Красный цветок (сборник)
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не раз с вами спорил об этом, Сергей Васильевич, и, кажется, ни мне вас, ни вам меня не убедить. Художник на то и художник, чтобы уметь поставить в себя вместо своего я – чужое. Разве Рафаэлю нужно было быть Богородицей, чтобы написать Мадонну? Ведь это абсурд, Сергей Васильевич.
Впрочем, я себе противоречу: я не хочу с вами спорить, а сам начинаю.
Он хотел что-то сказать мне, но махнул рукой.
– Ну, бог с вами! – сказал он, встал и начал ходить по комнате из угла в угол, мягко ступая войлочными туфлями. – Не будем спорить. Не будем растравлять мы язвы сердца тайной, как сказал кто-то и где-то.
– Кажется, никто и нигде.
– А и то может быть. Стихи я обыкновенно перевираю… Для утешения не приказать ли самоварчик? Пора ведь.
Он подошел к двери и громко крикнул, как кричат на ротном ученье:
– Чаю!
Я не люблю его за эту манеру обращаться с прислугой. Мы долго молчали. Я сидел, откинувшись на подушки дивана, а он все ходил и ходил. Казалось, он думал что-то… И наконец, остановившись передо мною, он спросил деловым тоном:
– А если бы у вас была натура, вы бы попробовали еще раз?
– Еще бы! – уныло проговорил я. – Да где ее возьмешь?
Он опять походил немного.
– Видите ли, Андрей Николаевич… Есть тут одна… особа…
– Если важная, то она не станет позировать.
– Нет, не важная, очень неважная. Но. . . очень, очень большое имею я при этом «но».
– Да какие тут «но», Сергей Васильевич? Если вы не шутите?
– Шучу, шучу, этого нельзя…
– Сергей Васильевич… – сказал я умоляющим тоном.
– Послушайте, что я вам скажу. Знаете, что я ценю в вас? – начал он, остановившись передо мной. – Мы с вами почти ровесники, я старше года на два. Но я изжил и переиспытал столько, сколько вам придется изжить и переиспытать, вероятно, еще в десять лет. Я не чистый человек, злой и… развратный (он резко отчеканил это слово). Есть многие развратнее меня, но я считаю себя виновнее. Я ненавижу себя за то, что не могу быть таким чистым, каким бы я хотел быть… как вы, например.
– О каком разврате и о какой чистоте говорите вы? – спросил я.
– Я называю вещи их собственными именами. Я часто завидую вам, вашему спокойствию и чистой совести; я завидую тому, что у вас есть… Ну, да это все равно! Нельзя и нельзя! – перебил он сам себя злым голосом. – Не будем говорить об этом.
– Если нельзя, то хоть объясните, что или кто у меня есть? – спросил я.
– Ничего… Никого… Да, впрочем, я скажу: сестра ваша, Софья Михайловна. Ведь она сестра не очень близкая по родству?
– Троюродная, – отвечал я.
– Да, троюродная. Она ваша невеста, – сказал он утвердительным голосом.
– Вы почему знаете? – воскликнул я.
– Знаю. Догадывался сначала, а теперь знаю. Узнал от матери, недавно она мне писала, – а она там как-то… Разве в губернском городе не все известно всем? Ведь правда? Невеста?
– Ну, положим.
– И с детства? Родители решили?
– Да, родители решили. Сначала для меня это было шуткой, а теперь я вижу, что так оно, кажется, и будет. Я не хотел, чтобы это сделалось известным кому-нибудь, но не особенно горюю, что это узнали вы.
– Я завидую тому, что у вас есть невеста, – тихо сказал он, устремив глаза куда-то вдаль, и глубоко вздохнул.
– Не ждал я от вас такой сентиментальности, Сергей Васильевич.
– Да, я завидую тому, что у вас есть невеста, – продолжал он, не слушая меня. – Завидую чистоте вашей, вашим надеждам, вашему будущему счастью, нерастраченной нежности и любви, выросшей с детства.
Он взял меня за руку, заставил сойти с дивана и подвел к зеркалу.
– Посмотрите на меня и на себя, – сказал он. – Ведь что вы?
Гиперион перед сатиром козлоногим.
Сатир козлоногий – это я. А ведь я крепче вас; кости шире, и здоровье крепче от природы. А сравните: видите вот это? (он слегка коснулся пальцами начинавших редеть на лбу волос). Да, батюшка, все это «жар души, растраченный в пустыне»! Да и какой там жар души! Просто свинство…
– Сергей Васильевич, не вернемся ли мы к прежнему? Почему вы отказываетесь познакомить меня с моделью?
– Да потому, что она в этой растрате участие принимала. Я сказал вам: не важная особа, и действительно не важная. На нижней ступеньке человеческой лестницы. Ниже – пропасть, куда она, быть может, скоро и свалится. Пропасть окончательной гибели. Да она и так окончательно погибла.
– Я начинаю вас понимать, Сергей Васильевич.
– То-то. Видите, какое у меня есть «но»?
– Вы можете оставить это «но» при себе. Почему вы считаете долгом меня опекать и оберегать?
– Я сказал, за что я вас люблю. За то, что вы чистый. Не вы один, вы оба. Вы представляете собой такое редкое явление: что-то веющее свежестью, благоухающее. Я завидую вам, но дорожу тем, что хоть со стороны могу посмотреть. И вы хотите, чтобы я все это испортил? Нет, не ждите.
– Что же это такое, наконец, Сергей Васильевич? Мало вы надеетесь на мою вами открытую чистоту, если боитесь таких ужасных вещей от одного знакомства с этой женщиной.
– Слушайте! Я могу вам дать или не дать ее. Я поступаю согласно своему желанию. Я не хочу вам дать ее. Я не даю. Dixi[12 - Я сказал (лат.).].
Теперь он сидел, а я в волнении ходил по ковру.
– А вы думаете, что она подходит?
– Очень. Впрочем, нет, не очень, – резко оборвал он, – совсем не подходит. Будет о ней.
Я просил его, сердился, представлял всю нелепость взятой им на себя задачи охранять мою нравственность, и ничего не добился. Он решительно отказал мне и в заключение сказал:
– Я никогда не говорил два раза «dixi».