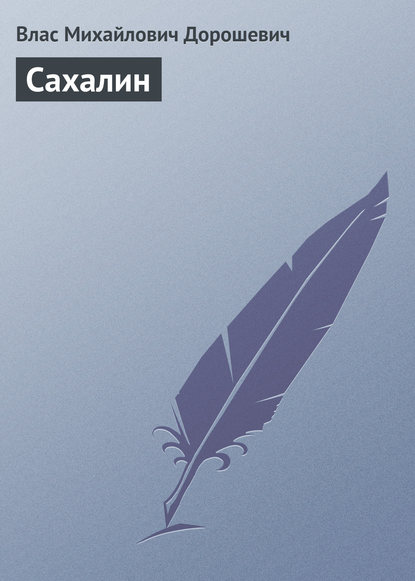По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сахалин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И действительно не забывает. Я видел людей, считавших полученные им розги тысячами, но 30 ударов «в конторе» они ни с чем сравнить не могли.
– Каждый удар прочувствуешь. Ждет, пока саднеть перестанет, да опять. Что тело – душа от ожиданья измучается. Смерти просишь, только бы не такое мучительство.
– Но и это, – говорит К., – мало к чему приводит. Я и к этому редко прибегаю. По-моему, нет лучше темного карцера. Вот это средство. Страшнее всякой порки. Как посадят недели на две… Пойдемте посмотрим.
Это нечто действительно ужасное.
Мы вошли в узенький коридорчик, по обеим сторонам которого были расположены маленькие клетушки с крошечными оконцами в двери.
От воздуха в коридоре кружилась голова. Запах словно на псарне или около клеток с волками.
И едва мы вошли в коридор, из всех каморок послышалась адская ругань по адресу К.
Люди вопили в бешенстве, ломились в двери. Это напоминало буйное отделение сумасшедшего дома.
– Отвори-ка Гусева! – приказал К.
Надзиратель взялся за замок. Но из камеры голос, полный ужаса:
– Не входите! Не входите ко мне! Я убью!
– И на самом деле, оставь его! – отменил свое распоряжение К. – Это, как видите, почище порки. Порка что!
Замечательно, что все эти люди, славящиеся своим драньем, – все в один голос говорят:
– Порка что! Разве она действует!
И дерут.
Смертная казнь
За четыре года управления генерала Мерказина на Сахалине не было ни одной смертной казни.
– Я знаю, это вызывает недовольство у многих! – говорил мне генерал.
Но прежде, чем говорить об этом «недовольстве», скажем несколько слов о том, как происходила обыкновенно смертная казнь на Сахалине.
Последняя, с Мерказина, казнь на Сахалине происходила около девяти лет тому назад.
Казнили троих каторжников-рецидивистов – старика, бывалого каторжанина, и двоих молодых людей – за убийство с целью грабежа, совершенное уже на острове.
Мне рассказывал об этой казни сахалинский благочинный, отец Александр, напутствовавший осужденных.
Они содержались отдельно. Отец Александр, по распоряжению начальства, явился к ним за три дня до смертной казни.
По появлению священника осужденные поняли, что смертный час приближается.
– Побледнели, испугались, оторопели, слова выговорить не могут, – рассказывал отец Александр, – только старик по первоначалу куражился, смеялся, издевался над смертью, над товарищами… Начнем священное петь – смеется: «Повеселей бы что спели!» – «Ну, – говорю, – братцы, там что будет, то будет, а пока не мешает и о душе подумать». Ну-с, хорошо. Принялись за молитву. Молились пристально, с усердием, всей душой.
– Все три дня?
– Все три дня-с. Беседовали о загробной жизни, читали жития святых, пели псалмы, молились вместе. Гулять на дворик вместе ходили. Не выпускали они меня от себя. Молят прямо: «Батюшка, побудьте с нами, страшно нам». Сбегаешь, бывало, домой часа на полтора, перекусишь, – и опять к ним. Спали они мало, так, с час забудется который и опять проснется. И я с ними не спал. Да и до сна ли было!
– Беседовали о чем-нибудь с ними, кроме священных предметов?
– Как же! Надежду в них все-таки поддерживал: «Бывали, мол, случаи, что и на эшафоте прощенье объявляли». Разве можно человека надежды лишать? Без надежды человек в отчаянье впадает. Допытывали они меня все – «когда да когда?» Ну, а как принесли им накануне белье чистое, тут они все поняли, что, значит, наутро. Эту ночь всю уж не спали. Один только, кажется, на полчаса забылся. Причастил я их этой ночью. А наутро, еле забрезжилось, – выводить. Надел черную ризу – повели.
Тут произошла задержка: опоздал на четверть часа кто-то из лиц, обязанных присутствовать при казни.
– Верите ли, – говорил мне отец Александр, – мне эти четверть часа дольше всех трех дней показались. Мне! А каково им?
Когда прочли конфирмацию, ударили барабаны.
Но это была лишняя предосторожность. Никакой обычной в таких случаях ругани по адресу начальства не было.
– Умерли удивительно спокойно. Приложились ко кресту и отдались в руки палача. Только один, самый молодой, Сиютин, сказал: «Теперь самое жить бы, а нужно помирать». Сами и на эшафот взошли, и на западню стали.
Только старик, сначала куражившийся над смертью, с каждым часом все больше и больше падал духом.
Его пришлось чуть не отнести на эшафот. От ужаса у него отнялись руки и ноги.
Пред казнью он просил водки.
– Ну, что ж, дали?
– Нет. Разве можно? После полночи только приобщались, а в пять часов водку пить не подобает.
Казнь продолжалась долго. Один из конвоиров во время нее упал в обморок. Многие из арестантов, приведенных присутствовать при казни, не выдерживали и уходили.
Эта последняя казнь на Сахалине происходила во дворе Александровской тюрьмы.
Обыкновенным же местом смертной казни была, теперь упраздненная и срытая до основания, страшная и мрачная Воеводская тюрьма, между постами Александровским и Дуэ.
Виселица ставилась посередине двора.
Присутствовать при казни выгоняли из тюрьмы сто арестантов, а если казнили арестанта Александровской тюрьмы, то пригоняли еще человек двадцать пять оттуда.
Воеводская тюрьма была расположена в ложбине, и с гор, амфитеатром возвышающихся над нею, было как на ладони видно все, что делается во дворе тюрьмы.
На этих-то горах спозаранку располагались поселенцы из Александровска и «смотрели, как вешают».
И этот амфитеатр, переполненный зрителями, и эти подмостки виселицы, – все это делало Воеводскую тюрьму похожей на какой-то чудовищный театр, где давались страшные трагедии.
От многих из зрителей я слышал подробности трагедий, разыгравшихся на подмостках Воеводской тюрьмы, но, разумеется, самые ценные, самые интересные, самые точные подробности мне мог сообщить только человек, ближе всех стоявший к казненным, присутствовавший при их действительно последних минутах, – старый сахалинский палач Комлев.
Он повесил на Сахалине 13 человек; из них 10 – в Воеводской тюрьме.
Его первой жертвой был ссыльнокаторжный Кучерявский, присужденный к смертной казни за нанесение ран смотрителю Александровской тюрьмы Шишкову.
– Каждый удар прочувствуешь. Ждет, пока саднеть перестанет, да опять. Что тело – душа от ожиданья измучается. Смерти просишь, только бы не такое мучительство.
– Но и это, – говорит К., – мало к чему приводит. Я и к этому редко прибегаю. По-моему, нет лучше темного карцера. Вот это средство. Страшнее всякой порки. Как посадят недели на две… Пойдемте посмотрим.
Это нечто действительно ужасное.
Мы вошли в узенький коридорчик, по обеим сторонам которого были расположены маленькие клетушки с крошечными оконцами в двери.
От воздуха в коридоре кружилась голова. Запах словно на псарне или около клеток с волками.
И едва мы вошли в коридор, из всех каморок послышалась адская ругань по адресу К.
Люди вопили в бешенстве, ломились в двери. Это напоминало буйное отделение сумасшедшего дома.
– Отвори-ка Гусева! – приказал К.
Надзиратель взялся за замок. Но из камеры голос, полный ужаса:
– Не входите! Не входите ко мне! Я убью!
– И на самом деле, оставь его! – отменил свое распоряжение К. – Это, как видите, почище порки. Порка что!
Замечательно, что все эти люди, славящиеся своим драньем, – все в один голос говорят:
– Порка что! Разве она действует!
И дерут.
Смертная казнь
За четыре года управления генерала Мерказина на Сахалине не было ни одной смертной казни.
– Я знаю, это вызывает недовольство у многих! – говорил мне генерал.
Но прежде, чем говорить об этом «недовольстве», скажем несколько слов о том, как происходила обыкновенно смертная казнь на Сахалине.
Последняя, с Мерказина, казнь на Сахалине происходила около девяти лет тому назад.
Казнили троих каторжников-рецидивистов – старика, бывалого каторжанина, и двоих молодых людей – за убийство с целью грабежа, совершенное уже на острове.
Мне рассказывал об этой казни сахалинский благочинный, отец Александр, напутствовавший осужденных.
Они содержались отдельно. Отец Александр, по распоряжению начальства, явился к ним за три дня до смертной казни.
По появлению священника осужденные поняли, что смертный час приближается.
– Побледнели, испугались, оторопели, слова выговорить не могут, – рассказывал отец Александр, – только старик по первоначалу куражился, смеялся, издевался над смертью, над товарищами… Начнем священное петь – смеется: «Повеселей бы что спели!» – «Ну, – говорю, – братцы, там что будет, то будет, а пока не мешает и о душе подумать». Ну-с, хорошо. Принялись за молитву. Молились пристально, с усердием, всей душой.
– Все три дня?
– Все три дня-с. Беседовали о загробной жизни, читали жития святых, пели псалмы, молились вместе. Гулять на дворик вместе ходили. Не выпускали они меня от себя. Молят прямо: «Батюшка, побудьте с нами, страшно нам». Сбегаешь, бывало, домой часа на полтора, перекусишь, – и опять к ним. Спали они мало, так, с час забудется который и опять проснется. И я с ними не спал. Да и до сна ли было!
– Беседовали о чем-нибудь с ними, кроме священных предметов?
– Как же! Надежду в них все-таки поддерживал: «Бывали, мол, случаи, что и на эшафоте прощенье объявляли». Разве можно человека надежды лишать? Без надежды человек в отчаянье впадает. Допытывали они меня все – «когда да когда?» Ну, а как принесли им накануне белье чистое, тут они все поняли, что, значит, наутро. Эту ночь всю уж не спали. Один только, кажется, на полчаса забылся. Причастил я их этой ночью. А наутро, еле забрезжилось, – выводить. Надел черную ризу – повели.
Тут произошла задержка: опоздал на четверть часа кто-то из лиц, обязанных присутствовать при казни.
– Верите ли, – говорил мне отец Александр, – мне эти четверть часа дольше всех трех дней показались. Мне! А каково им?
Когда прочли конфирмацию, ударили барабаны.
Но это была лишняя предосторожность. Никакой обычной в таких случаях ругани по адресу начальства не было.
– Умерли удивительно спокойно. Приложились ко кресту и отдались в руки палача. Только один, самый молодой, Сиютин, сказал: «Теперь самое жить бы, а нужно помирать». Сами и на эшафот взошли, и на западню стали.
Только старик, сначала куражившийся над смертью, с каждым часом все больше и больше падал духом.
Его пришлось чуть не отнести на эшафот. От ужаса у него отнялись руки и ноги.
Пред казнью он просил водки.
– Ну, что ж, дали?
– Нет. Разве можно? После полночи только приобщались, а в пять часов водку пить не подобает.
Казнь продолжалась долго. Один из конвоиров во время нее упал в обморок. Многие из арестантов, приведенных присутствовать при казни, не выдерживали и уходили.
Эта последняя казнь на Сахалине происходила во дворе Александровской тюрьмы.
Обыкновенным же местом смертной казни была, теперь упраздненная и срытая до основания, страшная и мрачная Воеводская тюрьма, между постами Александровским и Дуэ.
Виселица ставилась посередине двора.
Присутствовать при казни выгоняли из тюрьмы сто арестантов, а если казнили арестанта Александровской тюрьмы, то пригоняли еще человек двадцать пять оттуда.
Воеводская тюрьма была расположена в ложбине, и с гор, амфитеатром возвышающихся над нею, было как на ладони видно все, что делается во дворе тюрьмы.
На этих-то горах спозаранку располагались поселенцы из Александровска и «смотрели, как вешают».
И этот амфитеатр, переполненный зрителями, и эти подмостки виселицы, – все это делало Воеводскую тюрьму похожей на какой-то чудовищный театр, где давались страшные трагедии.
От многих из зрителей я слышал подробности трагедий, разыгравшихся на подмостках Воеводской тюрьмы, но, разумеется, самые ценные, самые интересные, самые точные подробности мне мог сообщить только человек, ближе всех стоявший к казненным, присутствовавший при их действительно последних минутах, – старый сахалинский палач Комлев.
Он повесил на Сахалине 13 человек; из них 10 – в Воеводской тюрьме.
Его первой жертвой был ссыльнокаторжный Кучерявский, присужденный к смертной казни за нанесение ран смотрителю Александровской тюрьмы Шишкову.