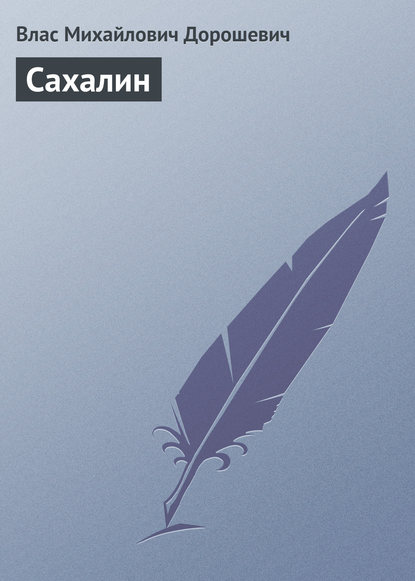По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сахалин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здесь когда-то разыгрывался страшный шторм. Теперь колышется зыбь.
А очень крупную зыбь так легко с первого взгляда принять за полный штиль.
Преступление оставляет неизгладимый след, глубокую борозду в душе.
Мне говорил один каторжник, жалуясь на то, что их заперли в кандальной за отказ от работ и две недели держали взаперти:[48 - В Рыковской тюрьме.]
– Что они? Убить нас, что ли, хотят? Задавить, как насекомую какую? Да нешто человека возможно убить? Я вон как уж, кажется, убил! Сам слышал, как кости затрещали, когда топором по затылку хватил. «Нет, – думаю, – отдышится». Взял да еще голову отрубил прочь. Откатилась голова… А он все живет. Тут вот со мной и живет. Ни шагу не отходит. Меня в сушилку[49 - Карцер.] посадят. Думают, одного, а он тут со мной, мой-то! «Не убивал бы, мол, меня, не сидел бы теперь во тьме кромешной». На «кобылу» ложусь, а он тут рядом с палачом стоит, зубы скалит: «Не убивал бы, на „кобыле“ не лежал бы». Везде со мной как тень идет. Живет, и покуда я жив, жив будет, в могилу за мной, под безыменный крест пойдет. Человека совсем убить невозможно!
II
Мне остается сказать еще об одном сорте бахвальства, очень распространенном, с типичным представителем этого сорта бахвальства я вас сейчас познакомлю.
Захожу в тюрьму.
Вижу, арестанты собрались кучкой. В середине какой-то краснобай о чем-то горячо ораторствует.
Увидал меня – и перестал.
– Помешал вам, что ли? Так уйду.
– Зачем, барин? Кака така помеха… Валяй дальше! Барин тоже послухает… Больно интересно.
Рассказчик повествовал о том, как он бежал из тюрьмы. Слегка, «для приличия» пококетничав, рассказчик продолжал:
– Ладно!.. Ударили, говорю я, тревогу. Весь караул, всю роту собрали за мной: этакий рестант бежал! Бегут, а я от них.
Они бегут, а я от них. Штыки сверкали, пули свистали… Так над головой и свищут. Мало-мало погодя перестали. Все пули расстреляли. Ни одна не попала!..
– С бегу стреляли-то? – интересуется молодой паренек, из дисциплинарных.
– С бегу.
– Если бы приостановился кто. Стрелять способнее.
– Тебя, дурака, не спросили, жалко! Фельдфебель! – обрывает его кто-то из слушателей, – валяй дальше!
– Стал я, братцы мои, приставать. Вижу, сил моих нет. Вот-вот, думаю, с ног свалюсь, возьмут. Да не такой человек Ефим Трофимов, чтобы живым в руки даться! Слышу, настигают… Все ближе топот. Оглянулся – глядеть страшно. Штыки сверкают. Сила! А по дороге-то, впереди так, – дерево… Высоченное дерево, сажен двадцать… Собрал я силенки – да к нему. Раз, раз – да и взобрался… Вскарабкался на сук да и сижу. Подбегают, запыхались, так с них и льет, еле дышат. Замучил я их, замытарил. «Слезай, – кричат, – чертов сын, честью!» – «Вот, – говорю, – ладно, беспременно слезу, когда рак свистнет. Подождите маленько!..» Им бы пулей меня достать – на что легче, да пули-то все пристреляли. А лезть-то боятся, потому топор при мне, – мне сверху-то по башке способно. Слышу, говор идет меж их: «Полезай ты сперва!» – «Нет, ты!» – «Нет, ты…» А я себе сижу, ни гу-гу, отдыхиваюсь. Только, братцы, постояли они так-то, решили дерево свалить, чтобы меня достать. Зачали дерево под корень штыками. Дрожит все дерево, трясется. Они копают, а я все выше взбираюсь. Они копают, а я выше. Взобрался на самую маковку, жду. Начало дерево подаваться… «Ну, еще! Наддай!» – орут, дерево валят. А по голосам слыхать, что еле дух переводят, пристали. «Еще наддай…» Ходуном подо мной дерево ходит, а я все на маковке сижу, держусь… Да как ухнет дерево-то, только стон пошел от ветвей, хруск… Как маковка-то об землю треснулась – я наземь да в бег. Они-то у корня стояли, а я на маковке, – у меня двадцать сажен, мазы[50 - Игрецкое выражение – вперед.]… Они-то, дерево копавши, вконец перемучились, а я-то отдохнул, сидючи!
– Здорово! – одобрили арестанты.
– Ведь вот говорят: «Семь верст до небес, и все лесом!»[51 - Арестантская поговорка, означающая человека, который слова правды никогда не скажет. «Чувырло братское», – означает арестанта с отталкивающей наружностью. «Затирать волынку», – затевать неприятность.] – не вытерпел задетый давеча за живое паренек.
– А тебе что? – накинулась на него каторга, – ты чего лезешь, волынку затираешь? Не любо, не слушай! А лезть нечего. Чувырло братское.
Каторга негодовала на то, что прервали «занятный рассказ».
Много таких рассказчиков в каждой тюрьме. И что это за рассказы! Что за дикие, за фантастические, нелепые рассказы о небывалых преступлениях! Слушаешь другого да диву даешься.
Его действительных-то приключений тома бы на три хватило. Да на каких тома! А он, Бог его знает, какую чушь выдумывает!
Это Понсон дю Терайли, Ксавье де Монтепены каторги.
Им не верят, да их не для того и слушают.
Каторга относится к ним, как мы – к нашим бульварным романистам.
Не требует от них правды, довольствуется интересной выдумкой.
Она смотрит на них как на хороших сказочников.
Это вряд ли можно назвать бахвальством преступлением.
Да я и не думаю, чтобы бахвальство могло произвести на каторгу особое впечатление.
Сидя с человеком 24 часа в сутки, поневоле изучишь его, будешь знать, на что он способен, на что нет, – сразу отличишь, что в его рассказах правда, что – хвастливая ложь.
Да каторга и не придает особенной цены преступлениям, совершенным «в Рассее».
– Там-то мы все храбры были!
Она относится еще с некоторым уважением к преступникам, взявшим, благодаря преступлению, крупную сумму, – и глубоко презирает тех, кто совершил преступление из-за грошей.
Самим же преступлением каторги не увидишь. Тут, так сказать, приходится «играть среди виртуозов».
Герои каторги – рецидивисты.
Она ценит только преступления и проступки, совершенные здесь, на Сахалине.
И какой-нибудь смелый беглец или человек, наговоривший дерзостей смотрителю, в ее глазах гораздо более «герой», чем человек, зарезавший целую семью в России.
Полуляхова каторга стала уважать с тех пор, как он бежал, дерзко, на виду у всех, – вырвав ружье у часового.
Есть только одно преступление, которое покрывает совершившего его немеркнущей славой. Это убийство кого-нибудь из тюремной администрации.
К такому каторга относится всегда с почтением.
Человек шел «на веревку».
Человек не боится ничего, – значит, надо бояться его.
И к такому человеку относятся с боязливым почтением.
Остальное все не производит никакого впечатления:
– Это все, что было, то прошло! Ты нам теперь себя выкажи!
Прошлое умерло. Каторгу интересует только, что в человеке «осталось».
А очень крупную зыбь так легко с первого взгляда принять за полный штиль.
Преступление оставляет неизгладимый след, глубокую борозду в душе.
Мне говорил один каторжник, жалуясь на то, что их заперли в кандальной за отказ от работ и две недели держали взаперти:[48 - В Рыковской тюрьме.]
– Что они? Убить нас, что ли, хотят? Задавить, как насекомую какую? Да нешто человека возможно убить? Я вон как уж, кажется, убил! Сам слышал, как кости затрещали, когда топором по затылку хватил. «Нет, – думаю, – отдышится». Взял да еще голову отрубил прочь. Откатилась голова… А он все живет. Тут вот со мной и живет. Ни шагу не отходит. Меня в сушилку[49 - Карцер.] посадят. Думают, одного, а он тут со мной, мой-то! «Не убивал бы, мол, меня, не сидел бы теперь во тьме кромешной». На «кобылу» ложусь, а он тут рядом с палачом стоит, зубы скалит: «Не убивал бы, на „кобыле“ не лежал бы». Везде со мной как тень идет. Живет, и покуда я жив, жив будет, в могилу за мной, под безыменный крест пойдет. Человека совсем убить невозможно!
II
Мне остается сказать еще об одном сорте бахвальства, очень распространенном, с типичным представителем этого сорта бахвальства я вас сейчас познакомлю.
Захожу в тюрьму.
Вижу, арестанты собрались кучкой. В середине какой-то краснобай о чем-то горячо ораторствует.
Увидал меня – и перестал.
– Помешал вам, что ли? Так уйду.
– Зачем, барин? Кака така помеха… Валяй дальше! Барин тоже послухает… Больно интересно.
Рассказчик повествовал о том, как он бежал из тюрьмы. Слегка, «для приличия» пококетничав, рассказчик продолжал:
– Ладно!.. Ударили, говорю я, тревогу. Весь караул, всю роту собрали за мной: этакий рестант бежал! Бегут, а я от них.
Они бегут, а я от них. Штыки сверкали, пули свистали… Так над головой и свищут. Мало-мало погодя перестали. Все пули расстреляли. Ни одна не попала!..
– С бегу стреляли-то? – интересуется молодой паренек, из дисциплинарных.
– С бегу.
– Если бы приостановился кто. Стрелять способнее.
– Тебя, дурака, не спросили, жалко! Фельдфебель! – обрывает его кто-то из слушателей, – валяй дальше!
– Стал я, братцы мои, приставать. Вижу, сил моих нет. Вот-вот, думаю, с ног свалюсь, возьмут. Да не такой человек Ефим Трофимов, чтобы живым в руки даться! Слышу, настигают… Все ближе топот. Оглянулся – глядеть страшно. Штыки сверкают. Сила! А по дороге-то, впереди так, – дерево… Высоченное дерево, сажен двадцать… Собрал я силенки – да к нему. Раз, раз – да и взобрался… Вскарабкался на сук да и сижу. Подбегают, запыхались, так с них и льет, еле дышат. Замучил я их, замытарил. «Слезай, – кричат, – чертов сын, честью!» – «Вот, – говорю, – ладно, беспременно слезу, когда рак свистнет. Подождите маленько!..» Им бы пулей меня достать – на что легче, да пули-то все пристреляли. А лезть-то боятся, потому топор при мне, – мне сверху-то по башке способно. Слышу, говор идет меж их: «Полезай ты сперва!» – «Нет, ты!» – «Нет, ты…» А я себе сижу, ни гу-гу, отдыхиваюсь. Только, братцы, постояли они так-то, решили дерево свалить, чтобы меня достать. Зачали дерево под корень штыками. Дрожит все дерево, трясется. Они копают, а я все выше взбираюсь. Они копают, а я выше. Взобрался на самую маковку, жду. Начало дерево подаваться… «Ну, еще! Наддай!» – орут, дерево валят. А по голосам слыхать, что еле дух переводят, пристали. «Еще наддай…» Ходуном подо мной дерево ходит, а я все на маковке сижу, держусь… Да как ухнет дерево-то, только стон пошел от ветвей, хруск… Как маковка-то об землю треснулась – я наземь да в бег. Они-то у корня стояли, а я на маковке, – у меня двадцать сажен, мазы[50 - Игрецкое выражение – вперед.]… Они-то, дерево копавши, вконец перемучились, а я-то отдохнул, сидючи!
– Здорово! – одобрили арестанты.
– Ведь вот говорят: «Семь верст до небес, и все лесом!»[51 - Арестантская поговорка, означающая человека, который слова правды никогда не скажет. «Чувырло братское», – означает арестанта с отталкивающей наружностью. «Затирать волынку», – затевать неприятность.] – не вытерпел задетый давеча за живое паренек.
– А тебе что? – накинулась на него каторга, – ты чего лезешь, волынку затираешь? Не любо, не слушай! А лезть нечего. Чувырло братское.
Каторга негодовала на то, что прервали «занятный рассказ».
Много таких рассказчиков в каждой тюрьме. И что это за рассказы! Что за дикие, за фантастические, нелепые рассказы о небывалых преступлениях! Слушаешь другого да диву даешься.
Его действительных-то приключений тома бы на три хватило. Да на каких тома! А он, Бог его знает, какую чушь выдумывает!
Это Понсон дю Терайли, Ксавье де Монтепены каторги.
Им не верят, да их не для того и слушают.
Каторга относится к ним, как мы – к нашим бульварным романистам.
Не требует от них правды, довольствуется интересной выдумкой.
Она смотрит на них как на хороших сказочников.
Это вряд ли можно назвать бахвальством преступлением.
Да я и не думаю, чтобы бахвальство могло произвести на каторгу особое впечатление.
Сидя с человеком 24 часа в сутки, поневоле изучишь его, будешь знать, на что он способен, на что нет, – сразу отличишь, что в его рассказах правда, что – хвастливая ложь.
Да каторга и не придает особенной цены преступлениям, совершенным «в Рассее».
– Там-то мы все храбры были!
Она относится еще с некоторым уважением к преступникам, взявшим, благодаря преступлению, крупную сумму, – и глубоко презирает тех, кто совершил преступление из-за грошей.
Самим же преступлением каторги не увидишь. Тут, так сказать, приходится «играть среди виртуозов».
Герои каторги – рецидивисты.
Она ценит только преступления и проступки, совершенные здесь, на Сахалине.
И какой-нибудь смелый беглец или человек, наговоривший дерзостей смотрителю, в ее глазах гораздо более «герой», чем человек, зарезавший целую семью в России.
Полуляхова каторга стала уважать с тех пор, как он бежал, дерзко, на виду у всех, – вырвав ружье у часового.
Есть только одно преступление, которое покрывает совершившего его немеркнущей славой. Это убийство кого-нибудь из тюремной администрации.
К такому каторга относится всегда с почтением.
Человек шел «на веревку».
Человек не боится ничего, – значит, надо бояться его.
И к такому человеку относятся с боязливым почтением.
Остальное все не производит никакого впечатления:
– Это все, что было, то прошло! Ты нам теперь себя выкажи!
Прошлое умерло. Каторгу интересует только, что в человеке «осталось».