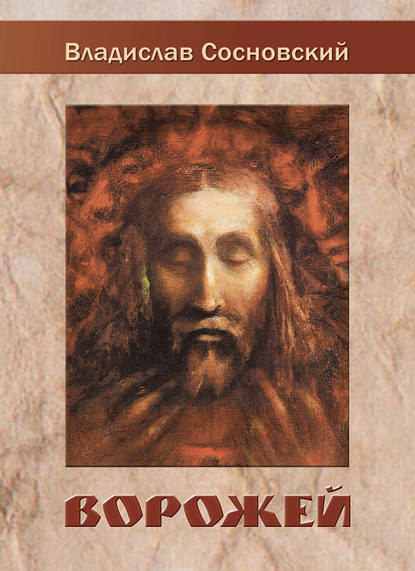По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ворожей (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Науке постижения Бога. В себе и во всем. Нас этому не учили. А это, как выясняется, главная наука.
– Не поздно?
– Что не поздно?
– Учиться, говорю, не поздно?
Хирург вздохнул.
– Этому, Петя, учиться никогда не поздно.
– Эх-хе-хе, – загрустил Боцман. – Чувствую, улетишь ты скоро в свой Петербург, и останусь я один, как якорь на дне моря. Давай, что ли, дернем по маленькой от тоски.
– Послушай, Петя, – сказал Хирург. – Я больше, приеду в Питер, пьяной капли в рот не возьму. Нельзя быть с Богом и хлестать водку. Мысли должны быть чистыми, как горная речка. А мы что? У нас мозги иной раз, будто портянки нестиранные. Позови меня больной в такой момент, что я с ним буду делать? Чем помогу? Вот ты, к примеру. С виду мужик здоровый, а селезенка, я вижу, у тебя барахлит. Тут вот… – Ткнул Боцмана в левый бок своей культяпкой Хирург. – Вот здесь болит иногда?
– Случается, – сознался Боцман. – Только мне, Митя, на все это наплевать. Пропал у меня интерес к жизни. Понимаешь? Пропал. Раньше была работа по сердцу. Жена. К чему-то стремился, книжки читал. Матросов любил. Не жил, а летел куда-то. Веришь? Да и купюры водились. Тоже, между прочим, не последнее дело. У меня о водке тогда и размышления не было. Купить мог – чего хотел. Да и цены, кстати сказать, стояли божеские. В отпуск – дуй хоть на золотые пески Варны. А сейчас что?.. Нет, Дима, ты себе как хочешь, но я хлебну, – решил Боцман и достал из рюкзака бутылку. – Не сложилась. Куда мне рыпаться: пятый десяток покатил. Такое чувство, будто торчу на причале, а пароход мой – вон он… скоро за горизонтом скроется. Тоска, Дима. Тоска серая. Глотнешь горькой – вроде теплее на душе. И пароход как будто недалеко. Глянешь – матросики по палубе бегают. С ними и сердце оживает. Так что богу – богово, а меня ты тут не убедишь. Как идет – пусть идет. И чему быть – того не миновать. Я ни перед кем не в долгу. Сам за себя в ответе. Да и годы не те – начинать сначала.
– Не нравишься ты мне, Петя. Ох, не нравишься, – в сердцах объявил Хирург. – Что ты сопли распустил? Вспомни, как жил в тайге три месяца. Един был со всем миром и душой спокоен. Не пил же там? Не пил. Никто не пил. И все на людей стали похожи. Потому что жили по-божески, чисто. Разве мне легче, чем тебе? Вот прилечу я в Питер. Кто я? Что я? Кому там нужен? Найду ли сына, жену? Да и признают ли они меня? Может быть, там давно другая семья. И все-таки, я верю, Петя. И молюсь. Нужно верить. Не опускать руки, как ты это делаешь. Есть у тебя дорога – иди по ней до конца. Крест на плечах – неси смиренно. Поставь цель – вернуться на корабль. И дано тебе будет. Так говорил один мой приятель из Тибета. Не забывай только обращаться к небу. Помни: ты человек и рожден для радости. А печаль твоя и хандра неутешная передаются всему миру. Близким твоим, далеким, вон тому дереву, сопке этой, океану. Все мы – одно целое. И если плохо тебе – плохо еще кому-то. А от радости твоей оживает Земля. Радость же приходит, когда, несмотря ни на что, добьешься своего. Вот тогда, Петя, почувствуешь себя человеком.
Водитель переключил скорость, и автобус пошел на взлобье перевала с новой силой.
Пассажиры дремали, похрапывали.
Боцман закупорил бутылку, засунул ее обратно в рюкзак и отвернулся к плывущему в редкой метели окну.
– Откуда ты взялся на мою голову, – сказал он в никуда. – Так было просто: вот мешки, вон ящики. За углом магазин. А теперь сиди, думай. Разбередил ты мне раны, Дима.
– Это не страшно, – ответил Хирург. – Думать, как показывает опыт, всегда полезнее, чем шастать по магазинам. Сие тебе как врач констатирую. И вернуться на корабль помогу. Есть у меня одна мыслишка.
В тот день, когда исчез Гегель – Смирнов Василий Николаевич, Хирург не находил себе места.
Нужно было обустраивать лагерь. Боцман с Борисом стучали молотками, натягивали палатки для хранения вещей и непортящихся продуктов. Мастерили в вагончике, стоявшем на берегу шумной, быстрой речки Лайковой, деревянные нары, а лагерный лекарь все ходил из стороны в сторону с бесполезным в его руке топором, не понимая: зачем, почему и куда устранился их загадочный собригадник.
По опыту Хирург знал, что эти места, сплошь покрытые дремучей тайгой, насквозь прошиты неумолчными речками, питавшимися ледяной водой таявших на сопках снегов, многочисленными протоками и ручьями болот. Пройти сотню верст по такой местности до Магадана мог только человек бывалый, выносливый, зоркий, для которого и примятая трава, и надломленная ветка, и откровенный след, и крик птицы были своего рода сообщением о том, как поступать в той или иной ситуации.
Смирнов же Василий Николаевич, облаченный в старенький, заношенный костюм, нестиранную рубаху, повязанную под воротничком аляповато-ярким галстуком, при затертом дерматиновым портфеле, в коем болталась электробритва, ветхое Евангелие и резиновый заяц, походил больше на заблудшего бухгалтера, нежели на матерого таежника.
– Ну чего ты маешься, в натуре? – угадал мысли бригадира Борис. – Никуда твой очарованный не денется. Хотя зачем ты взял его, никак не пойму. Я таких чумовых знаю. Завалился, как Ванька рязанский. Посидел на пенечке, покумекал – работа тяжелая, комарье, гнус пойдет. Помаши-ка тут косой на болотах… Нет, думает, это не по мне. И пошел втихую. А пойдет он, я тебе говорю, берегом Лайковой аж до Охотского моря. От одной стоянки косарей до другой. Мебель, небось, таких косильных бригад набросал по реке штук двадцать. До самой столицы Колымского края. Так что не боись: везде ему, придурку, и харч, и ночлег, и все прочее. Это чучело и мишка обойдет, и волк с рысью от хохота сдохнут. Другое дело – погреб некому копать. Тут я сейчас упер бы его лопатой в землю. Да и кухню ладить некому. Баню ставить. Не на неделю прикатили. Дрова к вечеру пилить. Работы навалом. Руки, сам знаешь, на вес золота. Четверо – не трое. А он, курва, в самый такой момент взял и сдунул. Но ладно, бугор, не бери в голову. Не вешаться же теперь. Справимся. Жалко, конечно, клешни тебе переломали те твари – Боцман рассказывал – ну ничего, переживем. Не убивайся, Хирург. Как-нибудь потихонечку все организуем.
– Да, скоро горбуша пойдет, – невпопад присоединился к разговору Боцман. – Икра будет.
Тайга по обе стороны реки стояла тихая, стройная. Неслышно умывалась неярким колымским солнцем. Но из дебрей ее тянуло чем-то диковато жутким, первобытно далеким.
– К вечеру дождь будет, – сообщил Хирург. – Надо поторапливаться с палаткой.
Борис оглянулся по сторонам.
– С чего ты взял? Небо кругом чистое.
– Вон ту сопку видишь? – показал Хирург топором. – Я ее Шаманом назвал. Так вот, если Шаман сидит в серой заячьей шапке из облаков – быть дождю. Тем более ветер оттуда. Ежели соболь на макушке снежный сверкает – солнце до заката. Словом, живой прогноз. Ну а сейчас чего мы наблюдаем?
– Серый на голове, – подтвердил Борис.
– То-то и оно, – вздохнул Хирург. – Представляешь, каково Гегелю будет? До ближайшей стоянки, не зная короткого пути, он не дотянет.
– Так ему, козлу, и надо, – вспылил Борис. – Пусть помокнет, раз мозги кривые.
– Мозги, Боря, у всех кривые, – открыл Хирург. – Главное, какие мысли в них имеются. А дурными словами в чей-то адрес бросаться нельзя, Боря. Они, эти слова, к тебе же и вернутся. Бедой, болезнью, переломленной судьбой и прочей неприятностью.
– Получается, много ты налил на кого-то слов таких? – с намеком на Хирургову долю спросил Борис.
Хирург поднял с земли толстую ветку, положил на пень, с которого недавно отделился в тайгу Гегель, и одним ударом пересек ее надвое.
– Нет, Боря, – сказал он. – Слов дурных я ни на кого за свой век особенно не обрушил. Потому и здоровье пока – тьфу-тьфу – слава богу. А жизнь переломилось – тут другое. Как-нибудь я тебя с Боцманом соберу и прочту между вами лекцию. Эта тема сильно глубокая. Признаться, мне и самому в ней многое неясно, но кое-что я все-таки понял. И Гегель, думаю, ушел неспроста. У него, видно, была своя причина, отличная от той, Боря, какую ты выставил. Если к ночи занепогодит – придется искать. Собаку, и ту жалко потерять. А уж человека…
– Вот интересно, Хирург. Чем ты меня берешь? Не могу просечь. Все внутри вроде бы противится тебе. А что-то шепчет в душе: прав он, прав. Святой ты, что ли? Или колдун?
Действительно, Хирург не ошибся. К исходу дня солнце еще не успело спрятаться за сопки, обливало тайгу теплым последним светом, а со стороны Шамана низко поползли лохматые пепельные тучи, ощупывая сивыми лапами верхушки старых сосен.
Стало сумрачно и тревожно. Вода в реке почернела и только на перекатах она по-прежнему вскипала и пенилась белыми вихрастыми бурунами. Чайки, налетевшие в ожидании нереста, притихли на островах, изредка оглашая помрачневший лес вещуньями криками. Предвещали же они непогодь, возможно, затяжную, какими и славится короткое колымское лето.
Хирург прослушал последние новости птиц и решил с утра, не откладывая, отправляться на розыски Гегеля.
Вертолет, вызванный для обнаружения беспутного косаря, впустую покружил над тайгой, да так ни с чем и вернулся на базу.
Тучи начали сеять холодной моросью, но складские палатки уже стояли и кухню успели укрыть полиэтиленом, спрятав под двойной крышей немного сухих дров. Но там кашеварить не стали.
В вагончике растопили чугунку и на ней приготовили японский порошковый картофель, щедро заправленный свиною тушенкой: с утра не держали во рту ни крошки.
Борис достал припасенную в городе бутылку рисовой водки и разлил ее в алюминиевые кружки.
– Ну что, мужики, – произнес Хирург и немного подержал кружку, обхватив ее с двух сторон корявыми пальцами обеих рук.
В свете керосиновой лампы морщины на его лбу и проямины на щеках стали глубже, худое лицо заострилось, и весь он сейчас напоминал старейшину древнего рода. – С началом сезона!
– Бог в помощь, – поддержал его Боцман.
Глухо чокнулись незвонким железом и, обнюхав хлебушка, набросились на еду.
Тихо шелестел по крыше за окошком дождь. Чутко вздрагивал желтый лепесток пламени за стеклом лампы. Пахло сосновыми дровами и керосином. От печки, водки и пищи враз стало жарко.
Обросший бородою, Боцман являл собою дремучее чудище, и ложка в его лохматой лапе казалась не больше булавки.
В свете дня борода старого моряка имела вид осанистый и даже как бы ухоженный. Сама собою разделенная на подбородке на две равные части, она плавно застилала лицо его рыже-золотой порослью с пробитыми сединой в концах скул витыми кольцами. В сумраке же была какого-то пугающего цвета обожженной меди, а вся его всклоченная после работы голова представляла некий далекий ветхозаветный образ.
Глядя на размытые очертания реки за небольшим окошком наскоро обустроенного жилища и думая свою неведомую думу, Боцман неожиданно решил вслух:
– Завтра побреюсь к чертовой матери. Начинать новую жизнь – что с якоря сниматься: надо с чистой мордой.