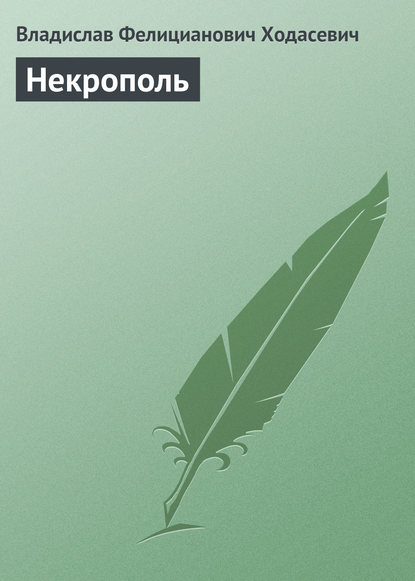По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Некрополь
Жанр
Год написания книги
1939
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Нерукотворного» памятника в человеческих сердцах он не хотел. «В века», на зло им, хотел врезаться: двумя строчками в истории литературы (черным по белому), плачем ребят, наказанных за незнание Брюсова, и бронзовым истуканом на родимом Цветном бульваре.
Его роман с Ниной Петровской был мучителен для обоих, но стороною, в особенности страдающей, была Нина. Закончив «Огненного Ангела», он посвятил книгу Нине и в посвящении назвал ее «много любившей и от любви погибшей». Сам он, однако же, погибать не хотел. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он хотел отстраниться, вернувшись к домашнему уюту, к пухлым, румяным, заботливою рукой приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий охотник. Желание порвать навсегда он выказывал с нарочитым бездушием.
С Ниной связывала меня большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли – из чистого озорства. Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не рассказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было.
Осенью 1911 г., после тяжелой болезни, Нина решила уехать из Москвы навсегда. Наступил день отъезда – 9 ноября. Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купе, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, «национальный» напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки. Бутылку допили. Поезд тронулся. Мы с Брюсовым вышли из вокзала, сели в сани и молча доехали вместе до Страстного монастыря.
Это было часов в пять. В тот день мать Брюсова справляла свои именины. Года за полтора до этого знаменитый дом на Цветном бульваре был продан, и Валерий Яковлевич снял более комфортабельную квартиру на Первой Мещанской, 32 (он в ней и скончался). Мать же, Матрена Александровна, с некоторыми другими членами семьи, переехала на Пречистенку, к церкви Успенья на Могильцах. Вечером, после проводов Нины, отправился я поздравлять.
Я пришел часов в десять. Все были в сборе. Именинница играла в преферанс с Валерием Яковлевичем, с его женой и с Евгенией Яковлевной.
Домашний, уютный, добродушнейший Валерий Яковлевич, только что, между вокзалом и именинами, постригшийся, слегка пахнущий вежеталем, озаренный мягким блеском свечей, сказал мне, с улыбкой заглядывая в глаза:
– Вот при каких различных обстоятельствах мы нынче встречаемся!
Я молчал. Тогда Брюсов, стремительно развернув карты веером и как бы говоря: «А, вы не понимаете шуток?», резко спросил:
– А вы бы что стали делать на моем месте, Владислав Фелицианович?
Вопрос как будто бы относился к картам, но он имел и иносказательное значение. Я заглянул в карты Брюсова и сказал:
– По моему, надо вам играть простые бубны. – И помолчав, прибавил: – И благодарить Бога, если это вам сойдет с рук.
– Ну, а я сыграю семь треф.
И сыграл.
* * *
Я на своем веку много играл в карты, много видал игроков, и случайных, и профессиональных. Думаю, что за картами люди познаются очень хорошо; во всяком случае, не хуже, чем по почерку. Дело вовсе не в денежной стороне. Самая манера вести игру, даже сдавать, брать карты со стола, весь стиль игры – все это искушенному взгляду говорит очень многое о партнере. Должен лишь указать, что понятия «хороший партнер» и «хороший человек» вовсе не совпадают полностью: напротив того, кое в чем друг другу противоречат, и некоторые черты хорошего человека невыносимы за картами; с другой стороны, наблюдая отличнейшего партнера, иной раз думаешь, что в жизни от него надобно держаться подальше.
В азартные игры Брюсов играл очень – как бы сказать? – не то чтобы робко, но тупо, бедно, обнаруживая отсутствие фантазии, неумение угадывать, нечуткость к тому иррациональному элементу, которым игрок в азартные игры должен научиться управлять, чтобы повелевать ему, как маг умеет повелевать духам. Перед духами игры Брюсов пасовал. Ее мистика была ему недоступна, как всякая мистика. В его игре не было вдохновения. Он всегда проигрывал и сердился – не за проигрыш денег, а именно за то, что ходил, как в лесу, там, где другие что-то умели видеть. Счастливым игрокам он завидовал тою же завистью, с какой некогда позавидовал поклонникам Прекрасной Дамы:
«Они Ее видят! Они Ее слышат!»
А он не слышал, не видел.
Зато в игры «коммерческие», в преферанс, в винт, он играл превосходно – смело, находчиво, оригинально. В стихии расчета он умел быть вдохновенным. Процесс вычисления доставлял ему удовольствие. В шестнадцатом году он мне признавался, что иногда «ради развлечения» решает алгебраические и тригонометрические задачи по старому гимназическому задачнику. Он любил таблицу логарифмов. Он произнес целое «похвальное слово» той главе в учебнике алгебры, где говорится о перестановках и сочетаниях.
В поэзии он любил те же «перестановки и сочетания». С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была, да и вряд ли могла быть закончена: он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчики «поэзии всех времен и народов»! В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной Литературы – во имя «исчерпания всех возможностей», из благоговения перед перестановками и сочетаниями.
Написав для книги «Все напевы» (построенной по тому же плану) цикл стихотворений о разных способах самоубийства, он старательно расспрашивал знакомых, не известны ли им еще какие-нибудь способы, «упущенные» в его каталоге.
По системе того же «исчерпания возможностей» написал он ужасную книгу: «Опыты» – собрание бездушных образчиков всех метров и строф. Не замечая своей ритмической нищеты, он гордился внешним, метрическим богатством.
Как он радовался, когда «открыл», что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым пеоном первым! И как простодушно огорчился, когда я сказал, что у меня есть такое стихотворение и оно было напечатано, только не вошло в мои сборники.
– Почему ж не вошло? – спросил он.
– Плохо, – отвечал я.
– Но ведь это был бы единственный пример в истории русской литературы!
В другой раз не мне было суждено огорчить его. К общеупотребительным рифмам смерть – жердь – твердь он нашел четвертую – умилосердь и тотчас написал на эти рифмы сонет. Я поздравил его, но пришедший С. В. Шервинский сказал, что «умилосердь» уже есть у Вячеслава Иванова. Брюсов сразу погас и осунулся.
* * *
Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов…
Это двустишие Брюсова цитировалось много раз. Расскажу об одном случае, связанном не прямо с этими строчками, но с мыслью, в них выраженной.
В начале 1912 года Брюсов познакомил меня с начинающей поэтессой Надеждой Григорьевной Львовой, за которой он стал ухаживать вскоре после отъезда Нины Петровской. Если не ошибаюсь, его самого познакомила с Львовой одна стареющая дама, в начале девятисотых годов фигурировавшая в его стихах. Она старательно подогревала новое увлечение Брюсова.
Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой. Родители ее жили в Серпухове; она училась в Москве на курсах. Стихи ее были очень зелены, очень под влиянием Брюсова. Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование. Но сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву «к»: говорила «ак» вместо «как», «оторый», «инжал».
Мы с ней сдружились. Она всячески старалась сблизить меня с Брюсовым, не раз приводила его ко мне, с ним приезжала ко мне на дачу.
Разница в летах между ней и Брюсовым была велика. Он конфузливо молодился, искал общества молодых поэтов. Сам написал книжку стихов почти в духе Игоря Северянина и посвятил ее Наде. Выпустить эту книгу под своим именем он не решился, и она явилась под двусмысленным титулом: «Стихи Нелли. Со вступительным сонетом Валерия Брюсова». Брюсов рассчитывал, что слова «Стихи Нелли» непосвященными будут поняты как «Стихи, сочиненные Нелли». Так и случилось: и публика, и многие писатели поддались обману. В действительности подразумевалось, что слово «Нелли» стоит не в родительном, а в дательном падеже: стихи к Нелли, посвященные Нелли. Этим именем Брюсов звал Надю без посторонних.
С ней отчасти повторилась история Нины Петровской: она никак не могла примириться с раздвоением Брюсова между ней и домашним очагом. С лета 1913 г. она стала очень грустна. Брюсов систематически приучал ее к мысли о смерти, о самоубийстве. Однажды она показала мне револьвер – подарок Брюсова. Это был тот самый браунинг, из которого восемь лет тому назад Нина стреляла в Андрея Белого. В конце ноября, кажется, 23-го числа, вечером, Львова позвонила по телефону к Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может – занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу: «Очень тоскливо, пойдемте в кинематограф». Шершеневич не мог пойти – у него были гости. Часов в одиннадцать она звонила ко мне – меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. Об этом мне сообщили под утро.
Через час ко мне позвонил Шершеневич и сказал, что жена Брюсова просит похлопотать, чтобы в газетах не писали лишнего. Брюсов мало меня заботил, но мне не хотелось, чтобы репортеры копались в истории Нади. Я согласился поехать в «Русские ведомости» и в «Русское слово».
Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы, рука об руку, стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он – в поношенной шинели с зелеными кантами, она – в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их.
Сам Брюсов на другой день после Надиной смерти бежал в Петербург, а оттуда – в Ригу, в какой-то санаторий. Через несколько времени он вернулся в Москву, уже залечив душевную рану и написав новые стихи, многие из которых посвящались новой, уже санаторной «встрече»… На ближайшей среде «Свободной эстетики», в столовой Литературно-художественного кружка, за ужином, на котором присутствовала «вся Москва» – писатели с женами, молодые поэты, художники, меценаты и меценатки, – он предложил прослушать его новые стихи. Все затаили дыхание – и не напрасно: первое же стихотворение оказалось декларацией. Не помню подробностей, помню только, что это была вариация на тему
Мертвый, в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий,
а каждая строфа начиналась словами: «Умершим – мир!» Прослушав строфы две, я встал из-за стола и пошел к дверям. Брюсов приостановил чтение. На меня зашикали: все понимали, о чем идет речь, и требовали, чтобы я не мешал удовольствию.
За дверью я пожалел о своей поездке в «Русское слово» и «Русские ведомости».
* * *
Он страстною, неестественною любовью любил заседать, в особенности председательствовать. Заседая, священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф – эти слова нежили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционною властью председателя», звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол», – все это было для него наслаждение, «театр для себя», предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. В эпоху 1907–1914 гг. он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями, женщинами. В конце девяностых или в начале девятисотых годов он, декадент, прославленный эпатированием буржуа, любящий только то, что «порочно» и «странно», вздумал в качестве домовладельца баллотироваться в гласные городской думы – Московской городской думы тех времен! В качестве председателя дирекции Литературно-художественного кружка часами совещался с буфетчиком на тему о завтрашнем дежурном блюде.
Осенью 1914 г. он вздумал справить двадцатилетие литературной деятельности. И. И. Трояновский и г-жа Неменова-Лунц, музыкантша, составили организационную комиссию. За ужином после очередного заседания «Свободной эстетики» прибор Брюсова был украшен цветами. Организаторы юбилея по очереди заклинали разных людей сказать речь. Никто не сказал ни слова – время было неподходящее. Брюсов уехал в Варшаву, военным корреспондентом «Русских ведомостей». Мысли об юбилее он не оставил.
Он был антисемит. Когда одна из его сестер выходила замуж за С. В. Киссина, еврея, он не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил их порога. Это было в 1909 году.
К 1914-му отношения несколько сгладились. Мобилизованный Самуил Викторович очутился чиновником санитарного ведомства в той самой Варшаве, где Брюсов жил в качестве военного корреспондента. Они иногда видались.
После неудачи московского юбилея Брюсов решил отпраздновать его хоть в Варшаве. Какие-то польские писатели согласились его чествовать. Впоследствии он рассказал мне:
– Поляки – антисемиты куда более последовательные, чем я. Когда они хотели меня чествовать, я пригласил было Самуила Викторовича, но они вычеркнули его из списка, говоря, что с евреем за стол не сядут. Пришлось отказаться от удовольствия видеть Самуила Викторовича на моем юбилее, хоть я даже указывал, что все-таки он мой родственник и поэт.
Его роман с Ниной Петровской был мучителен для обоих, но стороною, в особенности страдающей, была Нина. Закончив «Огненного Ангела», он посвятил книгу Нине и в посвящении назвал ее «много любившей и от любви погибшей». Сам он, однако же, погибать не хотел. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он хотел отстраниться, вернувшись к домашнему уюту, к пухлым, румяным, заботливою рукой приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий охотник. Желание порвать навсегда он выказывал с нарочитым бездушием.
С Ниной связывала меня большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли – из чистого озорства. Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не рассказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было.
Осенью 1911 г., после тяжелой болезни, Нина решила уехать из Москвы навсегда. Наступил день отъезда – 9 ноября. Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купе, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, «национальный» напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки. Бутылку допили. Поезд тронулся. Мы с Брюсовым вышли из вокзала, сели в сани и молча доехали вместе до Страстного монастыря.
Это было часов в пять. В тот день мать Брюсова справляла свои именины. Года за полтора до этого знаменитый дом на Цветном бульваре был продан, и Валерий Яковлевич снял более комфортабельную квартиру на Первой Мещанской, 32 (он в ней и скончался). Мать же, Матрена Александровна, с некоторыми другими членами семьи, переехала на Пречистенку, к церкви Успенья на Могильцах. Вечером, после проводов Нины, отправился я поздравлять.
Я пришел часов в десять. Все были в сборе. Именинница играла в преферанс с Валерием Яковлевичем, с его женой и с Евгенией Яковлевной.
Домашний, уютный, добродушнейший Валерий Яковлевич, только что, между вокзалом и именинами, постригшийся, слегка пахнущий вежеталем, озаренный мягким блеском свечей, сказал мне, с улыбкой заглядывая в глаза:
– Вот при каких различных обстоятельствах мы нынче встречаемся!
Я молчал. Тогда Брюсов, стремительно развернув карты веером и как бы говоря: «А, вы не понимаете шуток?», резко спросил:
– А вы бы что стали делать на моем месте, Владислав Фелицианович?
Вопрос как будто бы относился к картам, но он имел и иносказательное значение. Я заглянул в карты Брюсова и сказал:
– По моему, надо вам играть простые бубны. – И помолчав, прибавил: – И благодарить Бога, если это вам сойдет с рук.
– Ну, а я сыграю семь треф.
И сыграл.
* * *
Я на своем веку много играл в карты, много видал игроков, и случайных, и профессиональных. Думаю, что за картами люди познаются очень хорошо; во всяком случае, не хуже, чем по почерку. Дело вовсе не в денежной стороне. Самая манера вести игру, даже сдавать, брать карты со стола, весь стиль игры – все это искушенному взгляду говорит очень многое о партнере. Должен лишь указать, что понятия «хороший партнер» и «хороший человек» вовсе не совпадают полностью: напротив того, кое в чем друг другу противоречат, и некоторые черты хорошего человека невыносимы за картами; с другой стороны, наблюдая отличнейшего партнера, иной раз думаешь, что в жизни от него надобно держаться подальше.
В азартные игры Брюсов играл очень – как бы сказать? – не то чтобы робко, но тупо, бедно, обнаруживая отсутствие фантазии, неумение угадывать, нечуткость к тому иррациональному элементу, которым игрок в азартные игры должен научиться управлять, чтобы повелевать ему, как маг умеет повелевать духам. Перед духами игры Брюсов пасовал. Ее мистика была ему недоступна, как всякая мистика. В его игре не было вдохновения. Он всегда проигрывал и сердился – не за проигрыш денег, а именно за то, что ходил, как в лесу, там, где другие что-то умели видеть. Счастливым игрокам он завидовал тою же завистью, с какой некогда позавидовал поклонникам Прекрасной Дамы:
«Они Ее видят! Они Ее слышат!»
А он не слышал, не видел.
Зато в игры «коммерческие», в преферанс, в винт, он играл превосходно – смело, находчиво, оригинально. В стихии расчета он умел быть вдохновенным. Процесс вычисления доставлял ему удовольствие. В шестнадцатом году он мне признавался, что иногда «ради развлечения» решает алгебраические и тригонометрические задачи по старому гимназическому задачнику. Он любил таблицу логарифмов. Он произнес целое «похвальное слово» той главе в учебнике алгебры, где говорится о перестановках и сочетаниях.
В поэзии он любил те же «перестановки и сочетания». С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была, да и вряд ли могла быть закончена: он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчики «поэзии всех времен и народов»! В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной Литературы – во имя «исчерпания всех возможностей», из благоговения перед перестановками и сочетаниями.
Написав для книги «Все напевы» (построенной по тому же плану) цикл стихотворений о разных способах самоубийства, он старательно расспрашивал знакомых, не известны ли им еще какие-нибудь способы, «упущенные» в его каталоге.
По системе того же «исчерпания возможностей» написал он ужасную книгу: «Опыты» – собрание бездушных образчиков всех метров и строф. Не замечая своей ритмической нищеты, он гордился внешним, метрическим богатством.
Как он радовался, когда «открыл», что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым пеоном первым! И как простодушно огорчился, когда я сказал, что у меня есть такое стихотворение и оно было напечатано, только не вошло в мои сборники.
– Почему ж не вошло? – спросил он.
– Плохо, – отвечал я.
– Но ведь это был бы единственный пример в истории русской литературы!
В другой раз не мне было суждено огорчить его. К общеупотребительным рифмам смерть – жердь – твердь он нашел четвертую – умилосердь и тотчас написал на эти рифмы сонет. Я поздравил его, но пришедший С. В. Шервинский сказал, что «умилосердь» уже есть у Вячеслава Иванова. Брюсов сразу погас и осунулся.
* * *
Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов…
Это двустишие Брюсова цитировалось много раз. Расскажу об одном случае, связанном не прямо с этими строчками, но с мыслью, в них выраженной.
В начале 1912 года Брюсов познакомил меня с начинающей поэтессой Надеждой Григорьевной Львовой, за которой он стал ухаживать вскоре после отъезда Нины Петровской. Если не ошибаюсь, его самого познакомила с Львовой одна стареющая дама, в начале девятисотых годов фигурировавшая в его стихах. Она старательно подогревала новое увлечение Брюсова.
Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой. Родители ее жили в Серпухове; она училась в Москве на курсах. Стихи ее были очень зелены, очень под влиянием Брюсова. Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование. Но сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву «к»: говорила «ак» вместо «как», «оторый», «инжал».
Мы с ней сдружились. Она всячески старалась сблизить меня с Брюсовым, не раз приводила его ко мне, с ним приезжала ко мне на дачу.
Разница в летах между ней и Брюсовым была велика. Он конфузливо молодился, искал общества молодых поэтов. Сам написал книжку стихов почти в духе Игоря Северянина и посвятил ее Наде. Выпустить эту книгу под своим именем он не решился, и она явилась под двусмысленным титулом: «Стихи Нелли. Со вступительным сонетом Валерия Брюсова». Брюсов рассчитывал, что слова «Стихи Нелли» непосвященными будут поняты как «Стихи, сочиненные Нелли». Так и случилось: и публика, и многие писатели поддались обману. В действительности подразумевалось, что слово «Нелли» стоит не в родительном, а в дательном падеже: стихи к Нелли, посвященные Нелли. Этим именем Брюсов звал Надю без посторонних.
С ней отчасти повторилась история Нины Петровской: она никак не могла примириться с раздвоением Брюсова между ней и домашним очагом. С лета 1913 г. она стала очень грустна. Брюсов систематически приучал ее к мысли о смерти, о самоубийстве. Однажды она показала мне револьвер – подарок Брюсова. Это был тот самый браунинг, из которого восемь лет тому назад Нина стреляла в Андрея Белого. В конце ноября, кажется, 23-го числа, вечером, Львова позвонила по телефону к Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может – занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу: «Очень тоскливо, пойдемте в кинематограф». Шершеневич не мог пойти – у него были гости. Часов в одиннадцать она звонила ко мне – меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. Об этом мне сообщили под утро.
Через час ко мне позвонил Шершеневич и сказал, что жена Брюсова просит похлопотать, чтобы в газетах не писали лишнего. Брюсов мало меня заботил, но мне не хотелось, чтобы репортеры копались в истории Нади. Я согласился поехать в «Русские ведомости» и в «Русское слово».
Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы, рука об руку, стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он – в поношенной шинели с зелеными кантами, она – в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их.
Сам Брюсов на другой день после Надиной смерти бежал в Петербург, а оттуда – в Ригу, в какой-то санаторий. Через несколько времени он вернулся в Москву, уже залечив душевную рану и написав новые стихи, многие из которых посвящались новой, уже санаторной «встрече»… На ближайшей среде «Свободной эстетики», в столовой Литературно-художественного кружка, за ужином, на котором присутствовала «вся Москва» – писатели с женами, молодые поэты, художники, меценаты и меценатки, – он предложил прослушать его новые стихи. Все затаили дыхание – и не напрасно: первое же стихотворение оказалось декларацией. Не помню подробностей, помню только, что это была вариация на тему
Мертвый, в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий,
а каждая строфа начиналась словами: «Умершим – мир!» Прослушав строфы две, я встал из-за стола и пошел к дверям. Брюсов приостановил чтение. На меня зашикали: все понимали, о чем идет речь, и требовали, чтобы я не мешал удовольствию.
За дверью я пожалел о своей поездке в «Русское слово» и «Русские ведомости».
* * *
Он страстною, неестественною любовью любил заседать, в особенности председательствовать. Заседая, священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф – эти слова нежили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционною властью председателя», звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол», – все это было для него наслаждение, «театр для себя», предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. В эпоху 1907–1914 гг. он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями, женщинами. В конце девяностых или в начале девятисотых годов он, декадент, прославленный эпатированием буржуа, любящий только то, что «порочно» и «странно», вздумал в качестве домовладельца баллотироваться в гласные городской думы – Московской городской думы тех времен! В качестве председателя дирекции Литературно-художественного кружка часами совещался с буфетчиком на тему о завтрашнем дежурном блюде.
Осенью 1914 г. он вздумал справить двадцатилетие литературной деятельности. И. И. Трояновский и г-жа Неменова-Лунц, музыкантша, составили организационную комиссию. За ужином после очередного заседания «Свободной эстетики» прибор Брюсова был украшен цветами. Организаторы юбилея по очереди заклинали разных людей сказать речь. Никто не сказал ни слова – время было неподходящее. Брюсов уехал в Варшаву, военным корреспондентом «Русских ведомостей». Мысли об юбилее он не оставил.
Он был антисемит. Когда одна из его сестер выходила замуж за С. В. Киссина, еврея, он не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил их порога. Это было в 1909 году.
К 1914-му отношения несколько сгладились. Мобилизованный Самуил Викторович очутился чиновником санитарного ведомства в той самой Варшаве, где Брюсов жил в качестве военного корреспондента. Они иногда видались.
После неудачи московского юбилея Брюсов решил отпраздновать его хоть в Варшаве. Какие-то польские писатели согласились его чествовать. Впоследствии он рассказал мне:
– Поляки – антисемиты куда более последовательные, чем я. Когда они хотели меня чествовать, я пригласил было Самуила Викторовича, но они вычеркнули его из списка, говоря, что с евреем за стол не сядут. Пришлось отказаться от удовольствия видеть Самуила Викторовича на моем юбилее, хоть я даже указывал, что все-таки он мой родственник и поэт.
Другие электронные книги автора Владислав Фелицианович Ходасевич
Другие аудиокниги автора Владислав Фелицианович Ходасевич
Некрополь




 4.5
4.5