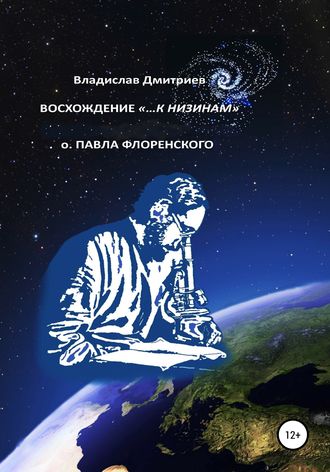
Восхождение «…к низинам» о. Павла Флоренского
В начале весны 1930 года директор К.А. Круг и его ближайшие сотрудники были отстранены от руководства институтом. Все начальники отделов были сняты со своих должностей и заменены партийными кадрами. Бывшему директору К.А. Кругу даже не продлили пропуск в институт, практически уволив его, но через некоторое время, когда стало понятно, что для выполнения научных работ важнее знания, а не партийная принадлежность, старую гвардию вернули в свои отделы обычно в качестве помощников по науке.
Для укрепления партийного руководства на пост директора ВЭИ был назначен 32-летний военный инженер Я.С. Рабинович, а его помощником по научной части стал инженер В.Г. Прелков. Новый директор приостановил дальнейшее развитие ВЭИ, которое предполагало строительство еще двух корпусов: института связи и опытного завода. Опытный завод будет построен позже, и тогда ВЭИ оформится в первый в стране научный городок, в состав которого компактно войдут научные корпуса, опытный завод и жилые корпуса для сотрудников.
Об этом трудном времени П.А. Флоренский, как всегда скромно и по делу, пишет, что уже в третий раз за 6 лет ему пришлось организовывать работу на новом месте: «В середине зимы 1929–1930 г. Отдел должен был вновь пережить ломку из-за перемещения в только что отстроенный электрофизический корпус ВЭИ в Анненгофской роще. Этот переезд в помещение, далеко и существенно не законченное отделкой, привел опять к прекращению работы Отдела никак не меньше, чем на полгода». Но не только трудности переезда были проблемой, необходимость и желание государства быстро сформировать новую техническую интеллигенцию, путем ускоренного выпуска из институтов молодых инженеров привело к тому, что: «К затруднениям от необорудованности нового помещения присоединились также и осложнения, вызванные чрезвычайно быстрым приростом числа сотрудников, причем новым сотрудникам были чужды задачи и характер работы Отдела, да кроме того в Отдел присылались сотрудники весьма неподготовленные. Таким образом, большая часть усилий довольно долгое время шла на упорядочение внешних и внутренних условий работы». В это время ему, как самому грамотному и работоспособному руководителю, который мог реально возглавить научный процесс: «…были присоединены группы магнитометрическая и металловедческая, а затем переведена из Отдела высоких напряжений или, точнее, возвращена Отделу материаловедения группа, занимавшаяся там изучением изоляционных материалов. Еще через некоторое время в Отдел были переведены из Химического Института им. Карпова группа, занимавшаяся главным образом фенольными смолами, и другая группа, работающая по электрохимическому покрытию металлов. Дальнейшее расширение заключалось в создании едва ли не первой в Союзе изобретательской лаборатории, и именно электротермической, которой была поручена в качестве первой задачи разработка технических предложений Кузнецова. Затем были организованы: электроугольная лаборатория, керамическая лаборатория и секция по проработке иностранной помощи. Последней была присоединена к Отделу группа лабораторий рентгеновского анализа. Однако наличный объем Отдела не может считаться и к настоящему моменту более или менее определившимся: под давлением огромного количества разнообразных задач, предъявляемых Отделу промышленностью, он неминуемо должен будет расширяться и дальше, но уже и в настоящее время перерос имеющиеся у него помещения» [7].
Резкое увеличение сотрудников и смена руководства привели к кризису управления в институте, не хватало руководителей, а те, которые были, не могли справиться с их большим количеством, по территории без дела слонялась масса сотрудников (об этом писалось в газете «Генератор»). Можно представить, как трудно пришлось начальнику отдела материаловедения П.А. Флоренскому, когда отдел одномоментно расширился до 206 человек. Это подтверждается статьей в газете «Генератор» под заглавием «Плоды махрового оппортунизма на практике», где, в частности, пишется:
«…говорит зав. отделом проф. Флоренский: “При руководстве приходится вникать в научную работу, но в некоторых лабораториях я замечаю стремление отстранить меня, например, я боюсь ходить в магнитную лабораторию, потому что проф. Аркадьев запретил мне разговаривать непосредственно с научными сотрудниками. На почве нежелания допускать к своей работе был инцидент с тов. Барышевой, которая не хочет, чтобы вмешивались в её работу, и подала заявление об уходе. Я чувствую себя плохим руководителем”» [14].
Здесь П.А. Флоренский слишком самокритичен, очевидно, что обладая высоким уровнем интеллекта и энциклопедическими знаниями, ему было тяжело общаться с людьми, не понимающими его, и, тем более, малообразованными. Вот как о П.А. Флоренском вспоминал инженер В.Б. Рекст:
«Он был очень образованным, много знающим и разносторонним человеком, умел посмотреть на обсуждаемую тему часто с совершенно неожиданных сторон. Поэтому одни его считали гениальным руководителем, а некоторые уходили после обсуждения с ним вопросов с некоторым недоумением и ворчали, что он слишком усложняет эти вопросы. Один мой знакомый, помнится, даже сказал, что он какой-то “заумный”. Я считаю, что именно эти свойства дали идеи новым очень прогрессивным направлениям работ в области электрической изоляции и позволили воспитать, целую плеяду талантливых работников в отделе. В их число, в частности, входит будущий академик К.А. Андрианов, начинавший свою работу в ВЭИ под руководством Флоренского, открывший целый класс новых кремнийорганических соединений. Вполне вероятно, что идея этих соединений могла быть первоначально высказана Флоренским» [14].
Очевидно, что П.А. Флоренскому, по своему характеру академическому ученому, привыкшему самостоятельно и интенсивно работать, справиться с такой массой сотрудников было не просто, если не невозможно. К этому надо добавить, что экстенсивное расширение института было вызвано также большим выпуском молодых специалистов техническими вузами страны, при этом количеству уделялось больше внимания, чем качеству. Государство стремилось создать новую техническую интеллигенцию путем большого скачка, так как она была необходима для выполнения задач индустриализации страны. Результатом такого подхода, стало большое количество выпускников, обладающих низким уровнем знаний в отличие от «бригадиров»: распространённой формы сдачи экзаменов того времени, когда один студент сдавал за всю бригаду студентов. Об этом автору рассказывал профессор МГУ К.П. Белов, который был сам таким «бригадиром» во время учебы в то время. И с такими специалистами приходилось общаться Флоренскому, который и с более грамотными людьми чувствовал себя «не очень», вот как вспоминает С.П. Раевский:
«…однажды я принес с собой в лабораторию легковесную по содержанию книгу, которую читал скуки ради, находясь в трамвае или в поезде. Каким-то образом эта книга оказалась на лабораторном столе, и Павел Александрович ее обнаружил.
– Сережа! – довольно строго он обратился ко мне. – Это ваша книга?
– Да, Павел Александрович, я ее сейчас уберу.
– Ну как это можно – такие вещи вносить в лабораторию!
Я хотел было взять книгу, но увидел, что Павел Александрович уже пытается, обернув руку в халат, ее подцепить. Потом, отряхнув руку как бы от пыли, он взял лабораторные щипцы, подцепил ими мою книгу и, аккуратно положив ее на пол, сказал:
– Теперь уберите ее и никогда сюда подобных книг не приносите.
– Хорошо, – ответил я, – но почему вы так аккуратно мою книгу положили на пол, а не спихнули ее?
Павел Александрович ответил:
– Человека можно ненавидеть, но всегда нужно быть с ним вежливым. Так и с книгой.
…Надо сказать, что Павел Александрович при всем своем добром и хорошем отношении к подчиненным ему сотрудникам, старался, как мне кажется, не общаться с ними домами, хотя очень многие стремились к этому, в том числе и сам директор института К.А. Круг. Кроме меня из всего коллектива другом дома Флоренских (не считая брата его жены Василия Михайловича Гиацинтова) был талантливый математик Александр Иванович Попов. …Как-то раз Павел Александрович говорил мне, что большим недостатком теперешней молодежи является незнание ими древних языков.
– Вот, к примеру, Александр Иванович. Очень порядочный, да, я бы сказал, довольно знающий человек, но ведь мне с ним очень неловко. Когда мне приходится отвечать на его приветствие на улице, мне кажется, что это все равно, что я здороваюсь с лошадью, да и с вами то же самое.
– Ну, со мной я понимаю, Павел Александрович. Но ведь Александр Иванович все же блестящий математик.
– А это не имеет никакого отношения к тому, что я вам сказал. В Древнем Риме лошади умели интегрировать, а говорить не могли» [7].
Как далее вспоминал Раевский: «Павел Александрович безошибочно определял качественную сторону человека почти с первого взгляда». Это особенно проявлялось, когда он встречал талантливую молодежь. Вот как об этом вспоминает его ученик, профессор Н.В. Александров:
«…Я окончил физико-математический факультет Казанского университета. Когда появился новый курс общей электротехники, меня направили на практику в ВЭИ. Павел Александрович меня, студента, посадил к себе в кабинет, и когда я окончил университет, попросил, чтобы меня распределили в ВЭИ. Здесь я с ним проработал с 1930 по 1933 годы.
Павел Александрович как руководитель отличался от других. Он был требователен, но никогда не повышал голоса, делал замечания в очень корректной форме. Особое значение он придавал записям. Он говорил: “Если Вы провели опыт и запомнили результаты – грош Вам цена. Вы должны записать результаты”.
Объем знаний Павла Александровича был сверхъестественный. Напротив нашей лаборатории был кабинет Б. Максорова. Он был химик-органик. Он говорил: “Органическую химию Павел Александрович знает лучше меня”. Проф. Я.И. Шпильрейн преподавал в МЭИ математику, чистую математику. Он говорил: “Павел Александрович знает математику лучше меня”.
У Павла Александровича были особо любимые занятия, хобби. Он очень любил микрофотографию. … Однажды Павел Александрович вел с каким-то немецким представителем переговоры о покупке каких-то приборов или техники. Переводчик переводил с немецкого Павлу Александровичу, а он говорил по-русски, и переводчик переводил на немецкий язык немцу. После разговора я спросил: “Почему Вы не говорили с ним по-немецки?” Павел Александрович ответил: “А почему я должен с ним по-немецки говорить, пусть он с нами по-русски говорит”.
Однажды мне довелось ехать с Павлом Александровичем в командировку в Ленинград. Надо сказать, что Павел Александрович вел очень скромный образ жизни. Ходил, можно сказать, в задрипанном кожаном пальто, сапогах и папахе, целый год в одном и том же, с рюкзаком за плечами. Мы все взяли постели и постелили себе в поезде, а Павел Александрович ничего не взял, положил под голову рюкзак и так спал. Мы недоумевали и потом долго обсуждали, что это было, умерщвление плоти, аскеза? Неприятность вышла в Ленинграде. Оказалось, что Павел Александрович – вегетарианец, и в столовых были сложности с питанием, нигде такой пищи не было.
Были у Павла Александровича по работе и неприятности. Он был научным руководителем всего института, а во главе отделов иногда стояли простые администраторы, которые не разбирались в вопросах науки, и происходили конфликты» [7].
Но в институте было много талантливых сотрудников как уже зарекомендовавших себя, так и молодых, например, в газете «Генератор» в заметке «Металлофизический семинарий» среди докладчиков от ВЭИ наряду с А.С. Займовским и П.А. Флоренским значатся: И.А. Тамм (И.Е. Тамм, авт.) и Г.С. Ландсберг, хотя в официальных биографиях академиков работа в ВЭИ не отражена. Это также относится к академикам Л.И. Мандельштаму и Н.Д. Папалекси, которые курировали работы по радиотехническим направлениям и непродолжительное время (в начале 1930 года) входили в группу теоретиков, когда К.А. Круг задумывал создать физический институт и собрал под «свое крыло» выдающихся ученых того времени.
По свидетельству В.Б. Рекста появление в институте множества творческих сотрудников в отделе материаловедения в начале 30-х годов сформировало:
«…очень дружный коллектив с каким-то равенством в отношениях. Особенно мне запомнились масса вечерних лекций, докладов, сообщений, не знаю, как их правильно назвать, на самые разнообразные темы и читаемые очень различными людьми – физика диэлектриков; техническое применение изделий из бакелитовых смол; схемы мостов для измерения tgδ в диэлектриках; ошибки в измерениях и многое, многое другое. … В тот период в ВЭИ работало много иностранных специалистов, которые были рассеяны среди нас, и мы с ними чувствовали себя непринужденно» [7].
В институте, начавшем свою работу в новом комплексе ВЭИ, сохранялся тот дух творчества, который был так характерен для многочисленных лабораторий, разбросанных по всей Москве. В это время Флоренскому как научному руководителю приходилось решать множество проблем научного, административного, хозяйственного плана, которые всегда возникают в крупном научном учреждении. Здесь он приобрел значительный опыт именно в современном способе проведения научных исследований, что и позволило ему написать об этом со знанием дела: «Проблемы, которые стоят перед Отделом материаловедения, распределяются на следующие группы:
1. Систематическое изучение, с опорой на всю сеть научно-исследовательских организаций, сырья, минерального и органического, уже применяемого в электротехнике, и нахождение применения в той же области новым видам сырья.
2. Изучение и рационализация процессов обработки и переработки сырья, как уже применяемого, так и новых видов.
3. Изучение выпускаемых на рынок электротехнических материалов, фабрикатов и полуфабрикатов, как союзного, так и заграничного рынка.
4. Изучение некоторых видов изделий (элементы, аккумуляторы, провода, конденсаторы, установочные материалы и т.д.).
5. Подготовка данных по нормализации и стандартизации электроматериалов, сырья для них и некоторых видов электроизделий.
6. Разработка методов испытания и исследования электротехнических материалов и изделий.
7. Систематическое обследование видов сырья, не нашедших себе применения в промышленности, отходов и отбросов различных отраслей промышленности для отыскания места применения в электрохозяйстве и соответственных способов переработки.
8. Разработка материаловедческих вопросов, значение которых состоит в заполнении пробелов, в углублении и критике общих основ материаловедения, причем практические выводы соответственных вопросов представляют задачу будущего» [7].
Характерная черта таланта Флоренского состоит в глубоком понимании задачи, что позволяло ему видеть её не только в целом, но и во взаимосвязи с другими факторами, а это давало возможность комплексного решения, увязывая с возможностями института и промышленности. У него был настоящий государственный ум именно из-за эрудиции, которая была намного шире профессиональной, что позволяло ему охватывать любую проблему в комплексе. Одним из примеров государственного подхода – его предложения по ряду мер: «…которыми обеспечивалось бы беспрепятственное развитие союзного материаловедения. 1) Организация в Бюро стандартов самостоятельного сектора материалов с особым упором на материалы электротехнические. 2) Издание материаловедческой энциклопедии – надежного, по приводимым сведениям, и полного, но вместе с тем достаточно компактного, коллективного труда, из которого можно было бы почерпать необходимые сведения по материалам. 3) Организация специального института электроматериаловедения, установка которого была бы не физические или химические явления в материи, как таковые, и не технология той или другой группы материалов сама по себе, а самые материалы, т. е. целостный охват материалов, начиная от сырья и кончая поведением их в службе. Ячейкой такого института мог бы послужить уже существовавший Отдел материаловедения (ВЭИ)… по значению разрабатываемой в нем дисциплины уже переросшей границы отдела, а по методам работы стоящий на отлете электротехники в собственном смысле слова. Отдел материаловедения уже в начале 1930‑х гг. представлял собой связующее звено между собственно электротехнической промышленностью и многими другими, добывающими или перерабатывающими» [7].
Как член Комиссии по стандартизации научно-технических обозначений при Комитете по стандартизации Флоренский по государственному и со знанием дела обосновывает организацию самостоятельного сектора материалов в Бюро стандартов: «До настоящего времени стандартизации материалов вообще и электроматериалов в особенности, не оказывается достаточного внимания. Забывается, что стандарт не может писаться компилятивно, но должен опираться на доскональную опытную проработку, которую в большинстве случаев придется производить специально для стандарта и которая вместе с тем должна дать, как параллельный продукт, солидную материаловедческую литературу, почти отсутствующую в Союзе. Таким образом, Сектор материалов в Бюро стандартов может получить то глубокое и, можно сказать, решающее в отношении реконструкции промышленности значение, которое вправе ждать от него страна, но только при условии хорошо поставленного исследования. … Совершенно необходимо, чтобы до общественного сознания дошла мысль о ведущем значении, которое должно принадлежать стандарту, и о недопустимости составлять его наспех и кое-как, без действительного овладения стандартизируемым материалом» [7].

2.6. Главная тема
Таким образом, дела у П.А. Флоренского в 1932 году шли успешно, он был известен и уважаем, хотя административный распорядок в ВЭИ, не учитывающий его ночной стиль работы, приводил к конфликтным ситуациям, примером служит следующая записка, видимо зам. директору по режиму: «Анатолий Евгеньевич, при входе в ВЭИ, утром, у меня был отобран билет, и это уже во второй раз. Полагая, что за моим действительным или мнимым опозданием следить должна вовсе не стража, я повернул обратно, о чем страже и заявил.
Если Вы считаете мое присутствие в Отделе нужным сегодня и далее, то благоволите распорядиться о возвращении мне входного билета и предотвратить подобные случаи на будущее. А пока я буду рассматривать себя как лишенного права на вход в Институт» [7].
Но это, все же, было исключением, авторитет Флоренского был слишком высок, тем более, что он занимался очень важным и трудным делом. В материале о. Андроника имеется очень интересное воспоминание Н.В. Александрова:
«Работы, которые я вел в лаборатории ВЭИ, не были самыми главными для Павла Александровича. Самыми важными были, я думаю, его работы по так называемыми водородным элементам. Это было крупное открытие, которое позволяло иметь трансформацию водорода в электроэнергию. Эти работы Павел Александрович вел вместе с проф. А.Г. Разумниковым» [7].
Это очень интересная информация, так как она связана с несколькими моментами. Еще в его тетрадях 1898 года можно найти схему электролизера, на подобном которому в 1838 году У. Гров обнаружил эффект выработки электрического тока, так что не исключено, что этим вопросом Флоренский занимался с раннего возраста. В его работе «Мнимости в геометрии» основное внимание было уделено поляризованным поверхностям, к которым можно отнести и полупроницаемые мембраны электрохимического генератора – водородного топливного элемента. Таким образом, эта работа, вероятно, была инициирована самим Флоренским, который понимал какие возможности может открыть реальная конструкция такого топливного элемента. К сожалению, какой-либо информации об этих работах нет ни в ВЭИ, ни архиве РГАНТДа (Самара), где хранится документация ВЭИ 30-х годов и куда автор обращался с этим вопросом. Видимо, эта работа проводилась в основном им самим в инициативном порядке, а профессор А.Г. Разумников, когда начались репрессии от них уехал в Новочеркасск и там преподавал в НПИ [18]. В настоящее время во многих странах идут работы по созданию такого элемента, который широко применяется в космических аппаратах, на подводных лодках и даже в автомобилях. Возможно, в доме-музее П.А. Флоренского в Сергиевом Посаде, где сохранились документы того времени, когда он работал в ВЭИ, могут обнаружиться документы по разработке водородного элемента, что может указать на его приоритеты в данном вопросе.
2.7. Вычислительные машины Флоренского
Но работы Флоренскому хватало и так, задачи, которые стояли перед ВЭИ, были значительны. Вот перечень только «ударных работ» на 1931 год перечисленных в газете «Генератор»:
Модель сложных сетей.
Автоматический катодный осциллограф АКО-6.
Выключатель сжатым воздухом.
Лампы с большой светоотдачей.
Элементы с большой производительностью.
Синтетические смолы.
Передача показаний приборов на расстояние.
Конструирование высоковольтной машины постоянного тока.
Разработка и постройка передатчика метровых волн.
Разработка и производство аппаратуры для телевидения.
Влияние работы высоковольтных линий передачи на линии связи» [14].
Из перечисленных работ в сферу его прямой ответственности как научного руководителя попадали пункты 4, 5, 6, но интересен также пункт 1 – «модель сложных сетей».
В 1928 году дипломник основателя и директора ВЭИ К.А. Круга студент С.А. Лебедев защитил дипломный проект на тему «Устойчивость параллельной работы электрических станций». Вскоре в ВЭИ была организована лаборатория, «занявшаяся исследованием вопросов устойчивости и регулирования мощных энергосистем, разработкой практических методов расчета и их внедрения в практику проектирования». Но сложность расчетов мощных энергосистем была такова, что без применения технических средств произвести их было практически невозможно. Поэтому первым шагом С.А. Лебедева на пути автоматизации расчетов стала разработка моделей сетей переменного тока. В газете ВЭИ «Генератор» в 1934 году № 11, он писал: «Собравши схему можно экспериментально весьма быстро проанализировать все интересующие режимы работы и на основе этого выбрать наиболее экономичные режимы, определить необходимое оборудование, выявить рациональную конфигурацию системы…». [19]. По сути, это была первая специализированная аналоговая вычислительная машина в СССР, состоящее «из 110 элементов активных и индуктивных сопротивлений, выполненных по заданному принципу». Можно задаться вопросом, а каким образом это связано с Флоренским? В 1932 году в журнале «Социалистическая реконструкция и наука» («СОРЕНА») была напечатана статья П.А. Флоренского «Физика на службе математики»[20], где он выступил против подхода к математике как самодостаточной науке, не нуждающейся в прикладном опыте физического характера: «Отрицание опытных корней математики и вытекающая отсюда потребность очистить ее от предполагаемых случайными наслоений опытного характера распространено … широко, … реже производятся … попытки освободить математику от интуиций. … Возможность математики без интуиции не провозглашается ответственно, но широта использования, … сколько удастся, урезывается. Или: элементарные интуиции не отрицаются, но сколько-нибудь сложное построение из них считается недопустимым, загрязняющим математику». Потому что: «Если, хотя бы некоторые, механические интуиции лежат в основе математики, то тем самым открывается доступ в математику и механизмам, может быть даже чрезвычайной сложности, опирающимся на те же интуиции». Таким образом «чистота математики» приводит к отрыву от практических потребностей, где требуется получить конкретный результат, например, расчета тех или иных устройств. Опасность ухода математики от практики и, особенно, в сложных задачах, когда: «…механизм, основанный на тех же самых свойствах твердого тела, осложняется, сторонники математической чистоты косятся на него, заподозревая в грубости, “инженерности” и считая его чуждым сфере математики, – хотя нового в нем, сравнительно с простым механизмом, столь же мало, как в формуле более сложной – сравнительно с более простой». Это как раз те вопросы, которые приходилось решать в своей практике работы в институте Флоренскому. Превосходно владея математическим аппаратом и обладая широкой эрудицией в физике, химии, он прекрасно понимал, что многие задачи поддаются математическому моделированию и с его помощью может быть получен результат, необходимый для решения конкретной задачи. Именно поэтому он выступает за применение в решении конкретных задач тех или иных приборов: «…вроде гармонических анализаторов и многочисленных механизмов, производящих операции анализа (Берви) …не вполне доверчиво усваиваются даже и различные интеграторы, и механизмы, интегрирующие дифференциальные уравнения. Пора определенно высказаться, что это пренебрежительное полупризнание подобных механизмов существенно ущербляет математику и со стороны практической приложимости, и со стороны философского мировоззрения, а кроме того тормозит и развитие самой математической алгорифмики». При этом если глубоко рассматривать действие таких устройств, то: «…неизбежно открываем в нем участие весьма различных физических процессов, существенно присущих данному функционированию и не могущих быть извлеченными из него даже в мысленном эксперименте, в абстракции». В конкретном прикладном случае, когда необходимо вычисление и получение результата по заданным параметрам, мыслимый и абстрактный математический эксперимент бессмысленнен, так как он представлен в общем виде и конкретные параметры в нем отсутствуют. В большинстве случаев: «…для нас важно не только то, что́ показывает механизм, но и то, как мы узнаем о его показаниях, и это “как узнаем” не есть нечто внешнее в отношении механизма, орудия познания, но его конститутивная характеристика. Обычный взгляд на дело есть тот, что требуется механизм, а все дальнейшее сделается само собою; иначе говоря, математику приписывается отвлеченно-метафизический атрибут всеведения, непосредственное знание, как обстоит с данным механизмом, со всеми механизмами и, следовательно, со всею вселенною. Тогда, действительно, механизм будет выполнять свое дело, а математик будет рассуждать о нем, не имея конкретной, жизненной связи с предметом своего рассуждения». Но на самом деле: «…Наше знание… получается с помощью ряда физических факторов, а таковые происходят во времени и в пространстве. Знание … какого угодно … математического инструмента, … не перескакивает к нам телепатически, но достигает через посредство пространственной среды, следовательно, от точки к точке и от временного момента – к моменту. А потому: математикам необходимо или открыто сослаться на телепатичность своего познания, или же утвердить, то же открыто, знание посредственное, а с ним законно ввести в математику – всегда привлекаемые к ней незаконно – интуиции различных деятелей природы и их собственных свойств. Но тогда математической аксиоматике придется существенно перестроиться. Сравнительно ничтожный сдвиг в сторону физической интуитивности математических знаний (разумею оба принципа относительности) повлек за собой бесчисленные последствия. Насколько же глубоко коренной будет перестройка математического мышления, когда станет ясно сознана условность и схоластичность современного математического формализма и усвоена мысль, что математика из жизни исходит, ею питается и ей же служит». Далее он дает конкретное указание на то, что: «Чтобы придумать математический механизм, необходима ясность математических рассуждений; но и придумать математическую формулу – это значит уметь конструировать. Формула есть воплощение отвлеченных понятий в некотором конкретном материале – в слове, в буквах, в знаках; она есть конструкция, она необходимо содержит в себе деятельность инженера, как в свой черед инженерные сооружения непременно воплощают в себе некоторую математическую мысль. … Но математика, … существенно опирается на интуицию, и притом, … на всю полноту жизни. Чем сознательнее и шире будет взят жизненный базис математики, тем пышнее расцветет она творческими возможностями.

