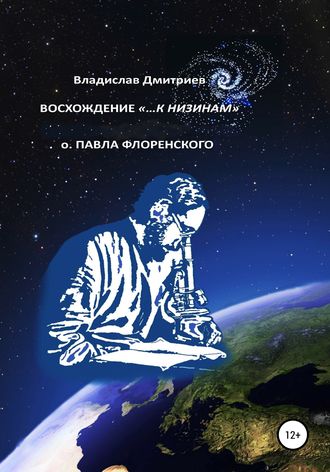
Восхождение «…к низинам» о. Павла Флоренского
Как специалист, который, работая в научном институте, много времени отдал промышленности, Флоренский хорошо представлял положение дел в ней, а потому констатировал: «Промышленность … идет в значительной мере на повтор заграничной (“догоняет”)», а это, по его мнению, в условиях России нерационально, поэтому: «…надо [решить] вопрос о движении не по направлению [заграничного типа] и с обгоном, но о самостоятельном, индивидуальном пути, вытекающем из особенностей страны». Объясняя это тем, что: «Заграничная промышленность выросла в своих, естественных для нее, условиях, и потому наиболее приспособлена к ним. Естественные условия нашей страны иные, и попытка догнать заграничную промышленность приводит нас в невыгодные условия, насколько многое из того, что за границей было естественно, у нас будет искусственно, … мы должны решать свои задачи и – своими средствами». Особенно, если будущее государство будет: «…самозамкнутое, соответственно независимо от оценок внешнего мирового рынка…». При таком подходе, если будет осуществляться политика, направленная: «…в сторону экономической изоляции от внешнего мирового рынка и отказа от вмешательства в политическую жизнь других государств, потребность в валюте могла бы быть весьма ограничена…». Интересно, что на момент написания автором этой книги в конце 2014 года ситуация в стране складывалась как в гипотетическом «государстве будущего», в этих условиях бойкота и санкций совет Флоренского состоит в том, что: «Интенсивности развития промышленности должна способствовать децентрализация, с вытекающей отсюда конкуренцией – как между госпредприятиями, так и между ними и остальными предприятиями». Но он понимал, что при отсутствии: «… крупного промышленного капитала не может быть речи о конкуренции между [государственным] производством и небольшим заводом…». Поэтому указывает еще на одну возможность интенсификации развития, которая также актуальна в настоящее время: «…существует ряд производств, для которых массовости не требуется, и здесь отдельные независимо поставленные небольшие предприятия могут идти впереди больших заводов и будут для государства выгодны». Далее он констатирует, что они: «…могут иметь в частности характер [научно-экспериментальных], изобретательских, вообще быть местами проявления инициативы и технического творчества; государству прямой расчет поддерживать их и давать им возможность развиваться. … Воплощение технической идеи нередко бывает весьма трудно, даже когда сама идея вполне созрела, и часто проходят многие годы, прежде чем удается реализовать соответственное производство».
Практически Флоренский в своей работе показывает, каким образом должна развиваться инновационная экономика в стране: «Поэтому следует озаботиться, чтобы в государстве возникало больше таких предприятий, которые были бы опытными не только со стороны научно-технической, но … чтобы подобные предприятия были частнопредпринимательскими». Но вот, что он прекрасно понимал и что зачастую недооценивается, когда на современном этапе с помощью государственной поддержки пытаются развить малый инновационный бизнес и на что Флоренский особо указал: «…несомненен провал, малорентабельность, даже химеричность значительной [их части] при непосредственной государственной ответственности за успех подобных [предприятий]; развитие их быстро прекратится, а между тем прогресс в технике всегда основан на свободной [игре] инициативы и выживания немногих направляющих комбинаций».
Он отдавал себе отчет, что если есть ответственность государства за развитие предприятия, то эту ответственность хозяин предприятия, несомненно, и переложит на государство, что и происходит при участии государства в различных акционерных обществах. Прогресс в технике обуславливается именно выживанием, а точнее востребованностью экономикой данного направления деятельности предприятия. Это очень важное замечание.
Но все благие пожелания реализуются не столько экономической поддержкой государства, сколько качеством конкретного человека, который участвует в экономическом, культурном, научном развитии страны, именно поэтому: «Из всех естественных богатств страны наиболее ценное богатство – ее кадры. Но кадрами по преимуществу должен считаться творческий актив страны, носители ее роста. Забота об их нахождении и сохранении и о полноценном развитии их творческих возможностей должна составлять одну из важнейших задач государства».
Это тем более важно, что он хорошо понимал из своего опыта как работы, так и преподавания в ВХУТЕМАСе, что: «…Творческая личность не делается, никакие старания искусственно создать ее – воспитанием и образованием – не приводят к успеху, и мечтать о массовых выводках творцов культуры, значит впадать в утопию. Задача трезвого государственного деятеля – бережно сохранять немногое, что есть на самом деле, … Творческая личность – явление редкое, своего рода радий человечества, и выискивать ее надо по крупицам. Государственная власть должна выработать аппарат для вылавливания таких крупинок из общей массы населения».
Здесь чувствуется его опыт. В своей научно-технической деятельности он прошел период подбора кадров в условиях дефицита специалистов и период переизбытка сотрудников, когда в массовом порядке учебными институтами выпускались и направлялись в ВЭИ молодые специалисты. Сам, являясь глубоко эрудированной и творческой личностью, он понимал, насколько редок талант и как труден его отбор. Простые методы, когда коллективно выдвигают на то или иное руководящее место выдвиженцев – неконструктивны, так как: «…выдвигают выдвиженца не высшие, то есть не те, которые действительно имеют [способность] судить о творческой ценности личности, а масса, руководимая нетворческими признаками». Это ярко подтвердилось во времена «перестройки» и распада СССР, когда дали возможность коллективам выбирать над собой начальников.
Его разъяснения, о том почему трудно взаимодействовать с творческими личностями связаны с тем, что: «…творческая личность чаще всего замкнута в себе, угловата, мало приспособлена к тому, что называется общественной деятельностью, а иногда даже асоциальна…». Вероятно, речь идет о савантах (от французского слова savant-ученый) – редком типе людей, имеющих особые способности. Именно полное погружение в предмет : наука, искусство и т.д., где ярко проявляется талант, приводит их к внешне асоциальному поведению, а по сути, нежеланию или невозможности отвлечься от глубоко поглощающего дела. В свою очередь это приводит к непониманию их окружающими и, как следствие, отторжению. Но именно данное природой уникальное свойство сверхконцентрации и дает тот удивительный эффект, когда талантом решаются проблемы, которые абсолютное большинство решить не может. Как, например, воспринимать нашего современника Г.Я. Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре, но полностью отказавшегося от каких-либо моральных и материальных благ, ведущего крайне замкнутый образ жизни. Видимо, о такого рода талантах и ведет речь Флоренский:
«… творческая личность, будучи продуктом счастливого и неожиданного объединения наследственных элементов, из которых каждый сам по себе, может быть, и не представляет ничего чрезвычайного, составляет крупный выигрыш в лотерее. … Этот счастливый выигрыш …может пасть на любую общественную среду, любую народность, любую ступень социального развития».
Вероятность рождения саванта очень мала. «Поэтому искать подобную личность надо всюду, под покровом всякой деятельности, … и для этого распознавания должен быть организован особый государственный аппарат». По мнению Флоренского именно на поиск и сохранение таких уникальных людей должны быть нацелены усилия государства, так как с помощью уникальных способностей таких людей могут быть решены те или иные сложнейшие задачи. Представляется, что наиболее подходящим органом для этого могла бы быть академия наук страны и тогда: «Государство будущего будет показывать не сейфы с золотым запасом, а списки имен своих работников». По тому, как современные государства гордятся своими нобелевскими лауреатами это очень верное замечание. Но при этом необходимо учитывать, что: «… творческая личность, … никогда не может быть загодя установлена с гарантией. … Кажущееся ценным может и не оказаться таковым пред лицом истории, а еще чаще кажущееся нелепым в данный момент, недоросшему обществу, отбирается потомством как культурная ценность. Государству, разыскивающему творческую личность, необходимо, с одной стороны, быть чрезвычайно осторожным в суждениях отрицательных, а с другой – заранее учитывать поправку на известную долю промахов…».
Рассматривая в своей работе творческие личности, он затронул очень острую и неоднозначную тему ещё об одной, по его мнению, общественной потребности: «До сих пор имелись в виду преимущественно творческая личность науки с техникой и искусством. Особо надо учитывать волевую личность, для общества необходимую не менее первых. Правда, в природе волевой личности лежит до известной степени и умение пробить себе дорогу и выдвинуться из массы. Но это выдвижение весьма нередко бывает в неудачную и даже противоположную сторону, вредную для общества». Вот здесь и возникает противоречие, с одной стороны – в необходимости (желательности) иметь у руля государства волевую личность, которая несмотря ни на что идет к цели, объединяя и направляя общество, а с другой, как её направить в нужную для общества сторону.
Очевидно, что при наличии у личности уникальных волевых качеств, то есть независимых от других мнений и желаний, это трудная задача. Поэтому предупреждает: «… Если искать выдающуюся волевую личность легче, чем другие [выдающиеся] личности, то направить ее по желательному для государства направлению – несравненно труднее». Здесь явное указание на опасность, которую представляет для общества волевая личность, пытающаяся все подчинить своему влиянию исходя из своих представлений и интересов. Цели волевой личности могут не совпадать с потребностями государства и общества и определяются теми моральными установками, которые сформировались у неё. Последующий трагический опыт страны и мира ярко показал, как это может реализоваться. Это самый трудный вопрос: как выдвигать волевую личность в руководство, а точнее как воспитывать в ней необходимые моральные качества и отбирать претендентов. В определенной степени это требует наличия государственной элиты, способной как воспитать, так и отобрать для политической деятельности волевую личность, защищающую интересы государства, а, следовательно, и существование этой элиты.
Но жизнь страны держится не только на творческих личностях, продвигающих её в тех или иных направлениях, а и на обыкновенных в своей массе людей, но им требуется соответствующая подготовка. При этом он считал, что наиболее рациональный путь подготовки «… это вручить их опытному … работнику… Индивидуальность самого «мастера», индивидуальность подхода его к своим “подмастерьям” и “ученикам”, …– таковы предпосылки обучения». Особенно это важным он считал при подготовке деятелей культуры так как: «… попытки ускоренной штамповки работников культуры не поведут к успеху, … действительная культурность передается не путем только одного внешнего научения, а лишь непосредственным воздействием личности».
Таким образом, сформировав основные представления о форме и структуре государства будущего, Флоренский переходит к одному из главных моментов, который интересен с точки зрения его понимания научной работы: к описанию организации научных исследований в стране. Это то, чем он занимался перед этим почти 12 лет. Но прежде чем рассматривать его подходы к организации научных исследований, стоит процитировать его слова о науке, которые он написал в начале этого произведения и которые обращают внимание на одну из сторон всяких научных исследований: «Наука учит не бодрой уверенности знания, а доказательству бессилия и необходимости скепсиса». И разъясняет этот несколько неожиданный вывод тем, что он видел в то время, и что мы наблюдаем и в настоящее время, к чему приводит: «автомобилизм – к задержке уличного движения; избыток пищевых средств – к голоданию» в реальности, правда, получилось к «ожирению», но тоже ничего хорошего, и далее он аргументирует уже другими категориями и необходимости скепсиса: «…представительное правление – к господству случайных групп и всеобщей продажности; пресса – к лжи; судопроизводство – к инсценировке правосудия и т.д. и т.д.».
Именно поэтому он призывает, скептически относится ко всяким достижениям и четко представлять негативные последствия, которые возможны без критического восприятия новых веяний и новаций.
Но, тем не менее, без науки немыслимо современное государство, так как: «… современная экономика всецело зависит от техники, а последняя обусловлена научным исследованием, то … научному … исследованию принадлежит значение решающее. Поэтому вопрос о рациональной постановке научного исследования, … должен быть поставлен особенно тщательно». Это необходимо для того, чтобы: «… предупредить хотя бы от части ошибок в дальнейшем. … ибо организация научного исследования есть в первую очередь организация рабочих сил, во вторую – литературных и лабораторных пособий и лишь в третью – тех стен, в которых идет научная работа».
Давно известный афоризм: "великие идеи исходят из малых лабораторий" остается в силе и до настоящего времени. А дальше следует фраза, которая явно написана под влиянием его участия в строительстве большого ВЭИ, но которая так и не потеряла актуальности до сих пор: «Ошибка настоящего времени – в максимальном и действительно огромном расходовании усилий на стены институтов, при недостаточной заботе об оборудовании (аппаратура и библиотека) и чрезвычайно малом внимании к самим работникам, т. е. к их подбору, к особенностям их работы, созданию благоприятных психологических условий, при которых творческая энергия может концентрироваться и раскрываться. Необходимо … учитывать, что творчество идет путями прихотливыми и непредвидимыми заранее, что у каждого созидающего ума имеются свои подходы и свои приемы».
Рассматривая психологию творчества, Флоренский предсказал, к чему приведёт насильственное принуждение к творчеству, которое через несколько лет попробует массово применить государство, организовав практически научно-исследовательские тюрьмы, известные как «шарашки». Именно предупредить от этой ошибки он пытался, так как понимал, куда клонится внутренняя политика страны и потому писал: «… творчество в его динамике … схематизации не поддается, и всякая попытка насильственно заставить течь его по заданному руслу приводит к борьбе, в результате которой творчество или побеждает, или иссякает».
Как уже писалось, в ВЭИ сконцентрировалось очень большое количество талантливых и творческих людей, что привело к достаточно частым конфликтам специалистов. Энтузиазм, увлеченность и молодость сотрудников ВЭИ приводили к конфликтам не только со специалистами старой школы, но и между собой, и прежде всего на почве авторства идей. Именно наблюдения за такими случаями в процессе творчества сотрудников института и возникающих при этом коллизиях привели к необходимости отметить: «… индивидуализация творчества делает очевидным и то, что большие скопления творческих личностей, поскольку скопление предполагает некоторый общий для всех порядок, неминуемо должно вредить их раскрытию в деятельности».
Хорошо представляя проблему и важность научных исследований в общегосударственном масштабе, имея опыт работы в большом институте в Москве, он понимал, что: «Исследовательские учреждения не должны быть централизованы, громадны, собраны в одно место. Это вредно притом не только им, но и стране, поскольку обескультуривает страну и вызывает нарушение равновесия между центром и всей периферией».
Концентрация исследовательских институтов в Москве и Ленинграде была вызвана сформированной в государстве жесткой административной системой, когда доступ к необходимым для работ ресурсам, определялся только через доступ к соответствующим ведомствам и, следовательно, институтам в центре было легче развиваться. Это хорошо понимали директора создаваемых институтов, пробивая их организацию в Москве. Однако такой подход был для страны, по мнению Флоренского, не рационален, а потому надо идти: «… путем создания многочисленных, сравнительно малых, весьма специализированных по задачам и индивидуализированных по научным работникам исследовательских учреждений, рассеянных по всей стране, внедренных в самые глухие уголки». Это требуется для того, чтобы: «… связать их с местными условиями и направить на реализацию местных возможностей, сделать идейно заинтересованными в результатах работы, поставить твердо в область конкретных, подлинно жизненных задач жизни страны. Напротив, централизация научного исследования по самой сути дела отрывает его от качественной индивидуализации как внешней жизни, так и творческой личности». Дальнейшая его судьба показала правильность этого тезиса, когда ему в разных местах и условиях пришлось решать проблемы вечной мерзлоты или добычи йода.
Понимая все аспекты функционирования научно-исследовательского института, где работы проводятся, прежде всего, с целью решения конкретных проблем, он считал, что необходимо жестко разделить работу, которая выполняется по заданию от творческих порывов и исследований исполнителя, т.е. таких, когда исследователь сам определяет направления своих научных интересов, так как: «Творчество, как деятельность, не поддающаяся планированию и поэтому не могущая считаться ответственной за свои результаты, естественно не должно быть, как правило, единственным содержанием гос. службы». В справедливости этой мысли Флоренского можно убедиться на следующем примере. В феврале 1930 года в ВЭИ в отдел электроматериаловедения был принят новый сотрудник, окончивший в 1926 году химфак МГУ. Это был состоявшийся специалист, имеющий уже несколько публикаций в области химии. Флоренским он был направлен на исследования физико-химических свойств элементов воздушной деполяризации, определяющих качественные характеристики электрических элементов (батарей). Это важное направление исследований, в котором новый сотрудник добился необходимых результатов, но широко известен он не только как специалист по электроизоляционным материалам, но как автор и создатель отечественной Государственной единой системы стенографии (ГЕСС). Речь идет о Николае Николаевиче Соколове, проработавшем в ВЭИ свыше 40 лет, ставшим доктором химических наук, профессором, автором 25 изобретений и свыше 50 научных трудов по различным вопросам химических соединений. Но широко он известен как автор специальных курсов стенографии и множества публикаций, посвященных вопросам стенографии. Он единственный в мире лауреат премии Габельсбергера как теоретик и практик-стенограф. Справедливости ради, следует отметить, что с 1937 по 1941 год, как написано им в автобиографии (в личном деле, сохранившимся в ВЭИ): «… по указанию Верховного Совета … работал в институте языка и письменности АН СССР», совершенствуя ГЕСС. В 1941 году он вернулся в институт, чтобы продолжить работу над необходимой фронту химической продукцией. Характерный эпизод, подтверждающий слова Флоренского, произошел с ним в 1947 году, когда Министерство высшего образования обратилось в ВЭИ с просьбой: «… разрешить работающему у Вас тов. Соколову Н.Н. чтение лекций по теоретическим основам стенографии … в количестве 6 часов в неделю» [30]. Через 2 месяца ВЭИ дало согласие на 4 часа лекций в неделю, хотя директор высших центральных курсов стенографии писал о нем: «… других специалистов в этой области не имеется» [30]. ВЭИ, таким образом, подтверждая необходимость для института Соколова, в тоже время, не давал ему в полной мере реализоваться.
Случай с Соколовым, конечно, крайний, т.к. его творческие интересы полностью не совпадали с рабочими, на практике обычно творческие интересы находятся в русле общей деятельности организации и отклонение от необходимого не носит столь противоречивого характера.
Но, тем не менее, Флоренский считал: «Полная независимость … лишь в исключительных случаях, когда творчество данной личности уже настолько обогатило государственную жизнь, что государство согласно пойти в дальнейшем на риск. Поэтому, как правило, в научной деятельности учреждений и лиц должна быть проведена резкая пограничная линия обязанностей нетворческого характера и работы творческой». А потому работы, которые заказываются государством или частным инвестором: «… требующие лишь применения уже известных знаний … должны хорошо согласовываться между учреждениями, …методике к определенным срокам и с полною ответственностью. Эта часть работы собственно и составляет прямую обязанность учреждения». Но научные исследования не должны ограничиваться только обязательными заданиями, так как это сужает и поле деятельности, и возможности дальнейшего развития научно-технического прогресса. Поэтому: «…научные работники должны иметь и полную свободу работы творческой, не планируемой, не идущей в календарном порядке, не контролируемой в отношении тем и лишь обсуждаемой (и награждаемой в случае признания ценности) по полученным результатам». Здесь интересно его предложение о вознаграждении как эффективном стимуле управления не только в научной или административной, но и в творческой работе.
Непростая для него тема – взаимоотношение с сотрудниками научного руководителя -также была затронута в его работе. Обладая огромной эрудицией и работоспособностью, ему приходилось зачастую сталкиваться с другим отношением к делу и, исходя из собственного опыта работы в институте, он писал: «Научная работа, требует полной ответственности за свои действия. В этом отношении она требует ответственности даже в более высокой степени. Отсюда вытекает необходимость действительного единоначалия всякого организатора научной работы. Нельзя плодотворно научно работать с помощниками, которые не согласны со своим руководителем, не понимают его с полуслова, а тем более – если они внутренне борются против него, его планов, его подхода к изучаемым явлениям». Как это происходило у него, уже рассказывалось, поэтому, разъясняя это свое требование к исполнителям, он писал: «Научное творчество, пока оно еще не воплотилось, основано на интуиции, на смутном брожении мысли, таящемся весьма глубоко. Даже преждевременная формулировка в слове может остановить или искривить творческий процесс, а тем более преждевременная критика, недоброжелательство, даже советы. Во многих случаях от помощника требуются не столько знания, сколько известные душевные качества…». Именно поэтому: «Будущее правительство должно предоставить возможность подбирать сотрудников всецело руководителю, т.к. данный со стороны может быть неподходящим, и притом вовсе не в силу каких-либо явных изъянов, достаточных для отвода». И снова он возвращается к теме творчества как важной для него лично, так и для всеобщего научного процесса: «В отношении творческой части работы не следует бояться так называемой непрактичности, … которое по самой природе своей целестремительно, хотя часть и не умеет в данный момент объяснить свою цель. Истинное творчество не может оказаться ненужным, но прицел его во времени может быть весьма различным. Далекие цели, будучи достигнуты, во многих случаях ускоряют процесс развития, но не от начала, а от конца, направляют другие процессы и оказываются нужными с неожиданной стороны и в неожиданных обстоятельствах». Это одно из свойств научной деятельности, когда в процессе исследований открываются новые возможности применения полученных результатов и, как следствие, в научном институте возникают новые направления работ. В силу этого обстоятельства крупные научные институты, как правило, являются родоначальниками целого ряда новых научных направлений, например, из того же ВЭИ выделилось более десятка научно-исследовательских институтов [14].

