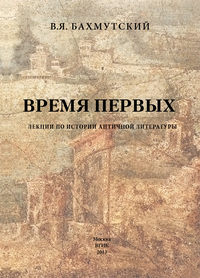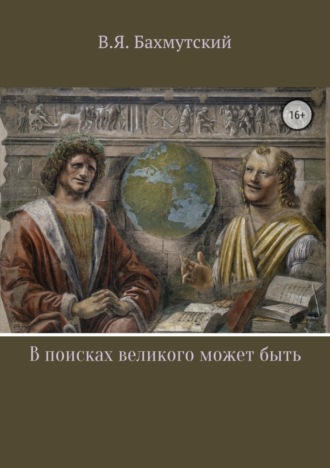
В поисках великого может быть
Но у Кнехта есть ещё один оппонент – это его друг Тегуляриус. Это виртуозный мастер игры, который доказывает ему, что вся человеческая история, в сущности, ерунда. Какая разница, существовал ли на самом деле кардинал Ришелье или Людовик XIV? Важны произведения Корнеля, Расина, Мольера, а не та историческая почва, на которой они возникли. Остаётся не история, а плоды культуры, и именно они представляют собой нечто абсолютное. Кнехт ему возражает: «Это так, с одной стороны, но всё дело в том, что они были погружены в эту почву, поэтому они могли что-то создать, а мы ничего создать не можем. Мы живём в этом условном пространстве».
Кнехт решает уехать из Касталии, ему недостаточно этого изолированного рафинированного мира. Он понимает, что Касталия возможна только потому, что существует и другой мир, который обеспечивает её жизнедеятельность. «Мы пребываем в истории и не можем из неё выйти, и, если мы не будем участвовать в действительности этого другого, реального мира, – рассуждает Кнехт, – он сбросит нас со счетов.» Кнехт принимает предложение своего друга Плинио Дезиньори и становится воспитателем его маленького сына Тито. Он приезжает к ним в дом, и в первый же день они с мальчиком отправляются на прогулку к горному озеру. Кнехт чувствовал усталость, но когда мальчик неожиданно нырнул в воду, он бросился вслед за ним и утонул.
Как понимать подобный финал? Здесь есть своя символика, и она существенна. Это Инь и Ян, важнейшие архетипы. Инь – женское начало, Ян – мужское начало. Это восточная, даосская формула. Это дух, символ которого – небо, и его иньская противоположность, символом которой является вода. Кстати, то, что это горное озеро – тоже существенно. Это образ круга. И сам этот прыжок Кнехта в воду – тоже своего рода символический жест. Символика финала выступает здесь очевидно – Йозеф Кнехт погрузился в иньскую стихию, в хаос жизни, в противоположное духу начало и утонул. Но это уже не просто жест, а некая жертва, преодоление самости. Это – наивысшая игра, и потому – выход за пределы игры.
Однако, есть и другая сторона этого вопроса, которую хотелось бы подчеркнуть. Выполнил ли Кнехт свою миссию? Выдающийся учёный, магистр игры, он решил стать простым воспитателем, наставником для маленького мальчика, и, к тому же, ничему не успел его научить, потому что утонул, едва прибыв на место, в первый же день. Что это –полное его поражение или победа? Отчасти победа, потому что этот бросок Кнехта в воду повлиял на душу его маленького ученика. Это был поступок, который совершенно преобразил сознание ребёнка.
Приведу один пример, чтобы было понятно, о чём идёт речь. Конечно, важно учение Иисуса Христа, его проповеди, то, что излагается в текстах Евангелий. Но всё-таки не было бы Христа, если бы не было распятия. И эта великая жертва, принесённая им, оказалась, быть может, не менее важной, чем само учение. Потому что иначе был бы ещё один Учитель, коих в истории человечества было немало.
Нужно самому пережить нечто, вот в чём дело. Почувствовать то, что нельзя передать никакими словами. Ведь, в конце концов, культура и искусство – это не собрание памятников, а прежде всего смыслы, духовные открытия. Кнехт заставил мальчика пережить истину, а не просто услышать её из уст наставника. Он погрузился в эту неупорядоченную, непредсказуемую, таящую в себе опасности стихию жизни. Без этого ничего не могло бы открыться. Кнехт это всегда понимал, и это, кстати, нашло отражение в его стихах:
Рассудок, умная игра твоя -
Струенье невещественного света
Легчайших эльфов пляска, – и на это
Мы променяли тяжесть бытия
Осмыслен, высветлен весь мир в уме
Всем правит мера, всюду строй царит
И только в глубине подспудной спит
Тоска по крови, по судьбе, по тьме
Как в пустоте кружащаяся твердь
Наш дух к игре высокой устремлён
Но помним мы насущности закон
Зачатье и рожденье, боль и смерть
(«Но помним мы…») (470)
Один из главных образов книги – образ ступеней:
Любой цветок неотвратимо вянет
В свой срок и новым место уступает:
Так и для каждой мудрости настанет
Час, отменяющий её значенье.
И снова жизнь душе повелевает
Себя перебороть, переродиться,
Для неизвестного ещё служенья
Привычные святыни покидая, —
И в каждом начинании таится
Отрада благостная и живая.
Всё круче поднимаются ступени,
Ни на одной нам не найти покоя;
Мы вылеплены Божьею рукою
Для долгих странствий, не для костной лени.
Опасно через меру пристраститься
К давно налаженному обиходу:
Лишь тот, кто вечно в путь готов пуститься,
Выигрывает бодрость и свободу.
Как знать, быть может, смерть, и гроб, и тленье
Лишь новая ступень к иной отчизне,
Не может кончиться работа жизни…
Так в путь – и всё отдай за обновленье!
(«Ступени». Перевод С. Аверинцева).
Человек должен сам пройти предназначенный ему путь шаг за шагом. Должен искать…
Поскольку, согласно воззрениям Гессе, вдох и выдох существуют неразрывно, в его романе два финала. Один – это окончание жизни самого героя. Кнехт бросился в воду, погрузился в Инь. А второй буквальный финал романа – индийское жизнеописание. Оно завершается мыслью об иллюзорности всего преходящего. Земной мир – это иллюзия, «майя» и от всего в этом мире следует отрешиться. Это и есть символические вдох и выдох произведения Гессе. У писателя нет ответа на вопрос: как надо, у него есть ответ: как не надо. Что точно человеку не позволено, так это останавливаться в своём движении к истине. И нельзя забывать, что обрести всю её полноту никому не дано: или погрузишься и утонешь, или возвысишься, отдалившись от живой человеческой действительности. Но сделать это одновременно невозможно. Кнехт ощутил это противоречие…
Нужно суметь погрузиться в стихию, хаос жизни, но не потерять при этом самого себя…
О французском экзистенциализме
Вообще, экзистенциализм – это философское течение, возникшее в Германии, но настоящую значимость оно обрело во Франции. Расцвет французского экзистенциализма приходится на военные и послевоенные годы: период примерно до 60-х годов XX века…
Экзистенциализм стал выражением особого мироощущения, рождённого драматическими событиями эпохи. «Мыслить можно только образами. Если хочешь быть философом, пиши романы», – утверждал Альбер Камю. Авторы экзистенциализма, в сущности, и были такими писателями-философами. Однако, как заметил однажды Камю, он такой же экзистенциалист, как и большинство пассажиров метро.
Во-первых, что такое экзистенция? Это наше индивидуальное «Я», смертное и неповторимое. Сущность человека – это не его родовая природа, а его уникальность. Поэтому по-настоящему экзистенцию открывает только смерть. Только смерть выявляет нашу неповторимость. Конечно, если в жизнь человечества войдет клонирование, это исчезнет. То есть, экзистенция – это неповторимая индивидуальность, то, что составляет глубоко личностное, сущностное, истинное «Я» каждого из нас. И оно действительно единственное…
Экзистенциализм дал новый взгляд на человека. Исходной точкой здесь стал индивид, субъект, а не объект. Это «Я», которое не подлежит объективации. Оно отделено от «моё». Конечно, человек играет в обществе различные роли, их множество, и все они взаимозаменяемы. Но подлинное «Я» человека не связано ни с какими социальными ролями, оно ничем не детерминировано, оно свободно…
Писатель-экзистенциалист Жан-Поль Сартр родился в 1905 году, умер в 1980, но его слава связана в первую очередь с периодом Второй мировой войны. Главная философская книга была написана Сартром ещё до того, как он создал свои пьесы. Это «Бытие и Ничто» (1943). Согласно этой работе, все поистине человеческие представления и качества связаны с понятием небытия. Воображение – это то, чего нет, будущее – то, чего нет, всякая мечта, искусство… Само человеческое бытие – это стремление к тому, чего, может быть, не существует. Человек всё время как бы ускользает от самого себя, и он всегда вносит в мир своё «нет».
Вообще, человек действительно занимает особое место в реальности. Он не подчиняется законам природы, поскольку создан «по образу и подобию Божьему» и словно заброшен в этот мир. Но Сартр считал, что Бога нет, а есть Ничто. И поэтому альтернатива для человеческого создания такова: или свобода, или Ничто. Человек свободен и никогда не равен самому себе, всегда пребывает в становлении. И он сам определяет систему координат, в которой существует.
Главное – это свобода выбора. Человек всегда выбирает. Но если он абсолютно свободен в своём выборе, то и тотально ответственен за него. Совершая тот или иной поступок, мы тем самым утверждаем определённые ценности и берём на себя всю полноту ответственности за свой выбор.
Ситуация, о которой размышлял Сартр, сложилась в период оккупации Франции нацистской Германией (1940-1944), и тогда его философия имела очень глубокий реальный смысл. Как сохранить свободу в обстановке максимальной несвободы? Как себя вести в подобных обстоятельствах? Это мужество под угрозой уничтожения, ненормальная, крайняя, исключительная ситуация. Сартр провозглашал свободу, когда эта свобода была отнята у человека, и в этом был истинный его пафос.
Мы остановимся на двух драмах, которые были написаны в одно и то же время, в период французского движения Сопротивления. Обе основаны на античных мифах. Это «Мухи» Сартра и «Антигона» Ануя. Один автор обращается к трагедии Эсхила, другой – к трагедии Софокла. У Сартра, как и у Ануя, использование мифа не случайно, оба писателя были склонны воспринимать таким образом современную им историческую действительность, стремились увидеть её истоки, прообраз в неких изначальных, глубинных моделях человеческого бытия.
События драмы Сартра «Мухи» (1943) происходят в Аргосе, где правят Клитемнестра и Эгисф, как и в трагедии Эсхила «Агамемнон». Почему драма называется «Мухи»? У Сартра это некоторый символ угрызений совести. Дело в том, что все жители Аргоса испытывают чувство вины. Они не защитили в своё время Агамемнона, предали царя и потому несут на себе вину за его гибель. Но отчасти, конечно, это необходимо перевести на язык реальности. Это образ оккупированной фашистами Франции, где каждый француз ощущал себя причастным к тому, что произошло со страной…
Жители Аргоса живут прошлым. В особый праздник к ним приходят духи умерших. Горожане во главе с царём и царицей накрывают для них столы, стелют постели, каются и молят своих мертвецов простить их. Вообще, Сартр не признавал власти прошлого. Его волнует только будущее, а прошлое для него точно не существует. Прошлое, в сущности, более всего определяет человека, но, по мнению Сартра, человека определяет свобода. А свобода – это то, что противоположно прошлому, то, что выбирает будущее.
Но вот в Аргос прибывает сын царя Агамемнона Орест. Пятнадцать лет тому назад ему удалось бежать из города, сохранив тем самым себе жизнь. Он вырос вдали от родных мест и вот теперь вернулся в Аргос под видом странника. Он встречает свою сестру Электру, и та насмешливо его предупреждает, что ежегодно приносить публичные покаяния в день убийства Агамемнона – теперь своего рода традиция аргивян. Все уже наизусть знают преступления друг друга, а уж преступления царицы – «это преступления официальные, лежащие, можно сказать, в основе государственного устройства». Электра, кстати, ненавидит мать, как ненавидит и нового царя Эгисфа, и очень хочет, чтобы Орест отомстил за смерть их отца. И Орест убивает Эгисфа. Но главная проблема – это месть матери. Здесь произведение Сартра очень резко расходится с античной первоосновой. Там боги велят мстить, а в драме Сартра, наоборот, Юпитер требует, чтобы Орест смирился с данностью и не убивал мать. Юпитер не возражал против мести Эгисфу. Теперь Орест будет управлять Аргосом, как и положено. Но Орест не хочет покориться Юпитеру, ибо тайна человека в том, что он свободен. А когда человек обретает свободу, приходит конец власти богов. Юпитер управляет всеми закономерностями природы, он всемогущ, всё подчиняется его воле, но над человеком он не властен. Человек свободен.
И что делает Орест? Он убивает мать.
Электра тоже очень одобряла месть Эгисфу, но она никак не может принять убийство матери. Зачем? В античной драме смерти Клетемнестры требовали боги, а здесь этого нет. Зачем тогда Орест убивает мать? Причём очень жестоко. Даже Электра от него отворачивается. Почему Орест это совершает? А потому что у него нет никакой почвы, он не чувствует никаких связей. Кроме того, он хочет освободить жителей Аргоса от мук совести, взять на себя всю полноту их вины. Теперь лишь он один во всём виновен. Орест уходит из Аргоса и увлекает за собой преследовавшие город огромные рои мух. Он не хочет властвовать, не желает брать на себя никакой ответственности. Он стремится лишь пробудить в людях чувство свободы, чтобы они могли начать новую жизнь. И убийство матери – это некий жест, предназначенный для зрителей, свидетелей его преступления. Орест взял на себя чудовищный грех, чтобы жители Аргоса почувствовали себя свободными. Но они никогда уже не будут по-настоящему свободны.
Тема противостояния человека насилию, личного мужества – центральная в драме французского драматурга Жана Ануя (1910-1987) «Антигона», созданной в 1942 году, в период, когда Франция была оккупирована нацистскими войсками. В произведении Ануя использован тот же самый сюжет, что и в одноимённой трагедии Софокла. Но только у Ануя Креонт доказывает Антигоне, что всё происходящее – это спектакль, который он затеял с телами её погибших братьев. Он даже не знает, кто из них Полиник, а кто Этеокл, понятия не имеет. Просто так надо. Вообще, оба брата были мерзавцами, зачем Антигоне их хоронить, какой долг она выполняет? Креонт уговаривает Антигону не братьев оплакивать, а выйти замуж за царевича Гемона, нарожать детей, принять всё происходящее как данность. Зачем отказываться от личного благополучия? Какие идеалы она отстаивает? Её братья не стоят такой жертвы! Жизнь – это компромисс. Креонт уговаривает Антигону с ним согласиться, сказать, как и он, происходящему «да». Антигона же отвечает, что пришла в этот мир говорить «нет».
Что означает это «нет» Антигоны? С одной стороны, она не хочет принимать участия в бесчеловечном спектакле, который разыгрывает Креонт, с этого начинается действие. Но в то же время, и в этом заключается роль Антигоны, она рождена говорить «нет». Она не хочет принимать мир, лишённый идеального начала, в которое она верит. Антигона пытается утвердить в мире эту высокую духовную норму, отстоять человеческое достоинство. Однако оказывается, что и это, в сущности, лишено смысла. И она испытывает глубочайшее разочарование в финале драмы – это момент её встречи со стражниками. Им на всё плевать: Креонт уходит, Антигону казнят, Гемон гибнет, а они продолжают по-прежнему играть в карты. Если бы её «нет» было хоть кем-то услышано. А стражников, главных свидетелей происшедших событий, кажется, ничто не волнует, поэтому драма Ануя завершается крайне пессимистично. Креонт и Антигона – это два полярных принципа, это «да» и «нет», но они ещё могут спорить между собой. А вот со стражниками, образ которых обрамляет драму, говорить не о чем. Им всё равно.
Французский писатель и философ Альбер Камю, пожалуй, самый значительный из представителей экзистенциализма… Родившийся в 1913 году, он ушёл из жизни в 1960, когда экзистенциализм себя уже исчерпал.
Как философ, Альбер Камю создал два значительных произведения: «Миф о Сизифе» и «Бунтующий человек». «Миф о Сизифе» – это ранний его трактат, написанный в 1942 году. На примере известного античного образа Камю показывает, насколько абсурдно само отношение человека к миру.
Дело в том, что мир не подчиняется человеческой логике. Может быть, у него есть какая-то своя особая, недоступная человеческому разумению логика, мы этого не знаем. Но когда человек со своими нравственными и рациональными представлениями сталкивается с миром, рождается ощущение абсурда.
Человек абсурда – это Сизиф. Как известно, герой античного мифа Сизиф был обречён богами бесконечно закатывать на вершину горы камень, который каждый раз тут же скатывался вниз. Камю считал, что примерно так же действует любой человек в нашем мире: непрестанно поднимает на гору свой камень, который потом обязательно вновь падает на прежнее место. Смерть всё обессмысливает.
Вопрос: как реагировать на абсурдную ситуацию? У Камю есть два варианта ответа и два типа абсурдного человека. Первое – это жить настоящим и не думать о том, что твой камень всё равно скатится с горы. По мнению Камю, такова жизненная позиция легендарного Дон Жуана, который живёт одним мгновением, складывает эти мгновения, не помня о конце. Его не волнует будущее. А есть другой, более возвышенный путь, который близок самому Камю, – эта идея получит затем развитие в его эссе «Бунтующий человек». Человек двигает камень вверх, зная, что камень всё равно снова упадёт, но он всё же вкатывает его на вершину, утверждая тем самым своё человеческое достоинство. Мужество человека – жить в этом мире абсурда. Ему не важно, что камень скатится. Важно, что он его поднял…
Это очень существенная мысль для ХХ века. Э. Хемингуэй, например, интересовался корридой. Для него это зрелище, старая, традиционная коррида, было некоторым прообразом искусства вообще. Когда скульптор создаёт статую, он надеется, что его творение останется после его смерти. Или поэт… Сочинив стихи, он стремится их напечатать, чтобы остался жить этот «памятник нерукотворный». А вот от сражения матадора с быком не остаётся ничего. Человек здесь утверждается в самом процессе, дальше ничего не будет, небытие всё поглотит, поэтому главное – это одержать победу…
Не так важно, сохранится ли статуя Афродиты, главное, чтобы она была найдена в мраморе…
Повесть Альбера Камю «Посторонний» (1942) – яркое художественное воплощение идей экзистенциализма. Она состоит из двух частей, повествование в которых ведётся от лица главного героя. Служащий в колониальном Алжире тридцатилетний француз Мерсо, с этого начинается первая часть, получает телеграмму, в которой сообщается, что его мать, проведшая последние годы жизни в богадельне, умерла и он должен прибыть на её похороны. Язык телеграммы какой-то уж слишком сухой и официальный. Да и сам Мерсо не испытывает особых чувств к покойной. Но он должен присутствовать на траурной церемонии. На похороны собирают и других обитателей заведения, чтобы те тоже посидели у гроба. Во время похорон у Мерсо появляется желание закурить, и он закуривает, привратник предлагает ему кофе – и он пьёт кофе. Мерсо нарушает все общепринятые нормы ритуала. Да и сами похороны, кстати, совершаются уж слишком поспешно. Очень жарко, и всё происходит с невероятной быстротой.
Возвратившись в Алжир, Мерсо отправляется на пляж. Там он встречает знакомую, бывшую машинистку из своей конторы, и они идут в кино. Мари, правда, удивляется, что, едва похоронив мать, Мерсо смотрит комедию, а потом, в тот же вечер, она становится его любовницей.
Главная фраза, которую произносит герой Камю: «Мне всё равно». Ему предлагают повышение по службе, новое назначение в Париж – ему всё равно, умерла мать – тоже, в общем-то, безразлично… Захотелось в кино – пошёл в кино. Потом Мерсо почувствовал влечение – позвал Мари к себе. Она говорит: «Давай поженимся». Он отвечает: «Давай». «А ты меня любишь?» – спрашивает она Мерсо. В ответ звучит: «Какая разница». «Но ты же хочешь на мне жениться?» «Мне всё равно»… А потом они уезжают куда-то за город, на берег моря, и там, на автобусной остановке у пляжа, Мерсо ссорится с арабами. Он не может объяснить, как всё произошло. Но было жарко, слепило солнце… Не в силах больше выносить палящий зной, он достал револьвер и выстрелил. Этим роковым выстрелом завершается первая часть. Мерсо оказывается под арестом.
Во второй части повести как бы зеркально проигрываются события первой. Идёт судебный процесс над Мерсо, застрелившим на пляже араба, судьи пытаются выстроить логику его поступка. Адвокат пытается доказать, что он – хороший, называет Мерсо честным тружеником и примерным сыном, содержавшим престарелую мать, пока это было возможно, а прокурор доказывает, как он ужасен: отправил мать в богадельню, демонстративно бесчувственно вёл себя на её похоронах, а потом и вовсе убил ни в чём не повинного. Одним словом, последний человек. По словам прокурора, Мерсо недоступны добрые чувства, неведомы никакие нравственные принципы. Слушая обвинения, Мерсо не узнаёт себя в этом рассказе. Впрочем, он не узнаёт себя ни в одной из версий, хотя всё выглядит весьма убедительно. И здесь я хочу коснуться одной важной особенности этого произведения. Она заключается в том, что в «Постороннем» Камю сумел показать, что такое, собственно, есть экзистенция.
Вторая часть повести, как я уже отметил, во многом повторяет первую. Это попытка выстроить всё происшедшее с героем логически. Вообще, суд – это игра по правилам. Но ничего не получается: Мерсо в эти схемы не укладывается, всё было не так. Никакая логика не работает. Однако поведение Мерсо здесь резко отличается от его поведения в первой части. Теперь он хочет говорить правду. Его умоляют хоть что-нибудь придумать, найти какое-нибудь оправдание, мотив, объясняющий, почему он выстрелил на пляже. Но он твердит лишь: из-за солнца, было очень жарко. Мерсо не хочет ничего объяснять. Он не желает притворяться. И его приговаривают к смертной казни.
Может быть, ему бы смягчили приговор. Конечно, он убил человека и заслуживает наказания. Но такой жестокий приговор «от имени французского народа» – обезглавливание на площади – вызван всё же поведением Мерсо на суде. Тем, что он не захотел признавать своей вины, не стал давать никаких объяснений.
И вот финал повести. К Мерсо приходит священник, чтобы исповедать его перед смертью, но Мерсо отказывается от исповеди, не желает тратить на разговоры о вечности оставшееся у него время. Он, в общем-то, считает, что его участь подобна участи любого из живущих. Все мы приговорены к смертной казни, и виновные и невинные. Для одних приговор исполнится чуть раньше, для других – позже, но вообще-то, это не имеет значения. Всего остального в жизни человека может и не быть, а вот смерть ждёт каждого…
Однако, последнее пожелание Мерсо несколько иное, чем те, что были до сих пор. Всё-таки Мерсо меняется во второй части повести. Теперь он хочет только «чтобы всё завершилось, чтобы не было мне так одиноко, <…> чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей – и пусть они встретят меня криками ненависти». (471) Прежде герою было всё равно, теперь же он хочет, чтобы его смерть была встречена криками. Всё завершается протестом.
Собственно, вторая часть повести – это вариант мифа о Сизифе. Мерсо сознательно отказывается врать. Его умоляют найти себе хоть какое-то оправдание, но он решает говорить лишь правду. Он отказывается принимать участие в предложенной ему игре. Он знает, что человек смертен, и в этом смысле ему всё равно. Но герой утверждает своё личное достоинство, сопротивляется. Он становится человеком…
Вообще, в этом романе дана некоторая формула художественного творчества. В понимании Камю творчество – это стремление воспроизвести реальность такой, какая она есть, безо всякой попытки её рационализировать или осмыслить. Такова, собственно, первая часть повести. Ведь ясно, что Мерсо описывал происшедшее уже в тюрьме, но он просто хотел вспомнить все детали, никак их не оценивая, не отыскивая никаких смысловых связей, стремился лишь передать, как всё было. Единственный смысл этих записей – как бы пережить события заново. Кстати, он очень хорошо всё помнит, каждое мгновение. И это сродни стремлению продолжить абсурдный мир в искусстве.
Но есть и другое – это попытка создать некое осмысленное целое. В этой концепции весь Камю, и в этом смысле его книга строго выстроена. Очень важная для него идея – столкновение живого и механистического, начиная со стилистики телеграммы, которую получает Мерсо, и, кончая гильотиной, которая лишает героя головы. Это живое и механистическое, по мнению Камю, сочетается в природе самого искусства, которое, с одной стороны, должно точно запечатлевать реальность, а с другой – даёт возможность осмыслить полный абсурда и бессмыслицы мир. Это конструкция, которую создает автор. В «Постороннем» это показано с необыкновенной силой.
Роман «Чума» (1947) – это чисто философское произведение Камю, связанное с идеями его трактата «Бунтующий человек». Камю считает, что существуют нравственные ценности, во имя которых человек способен на бунт. Известные слова Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую» Камю перефразирует: «Я бунтую, следовательно, мы существуем». Это значит, что человек существует, покуда в нём живёт протест, готовность утверждать высшие ценности даже ценой собственной жизни.