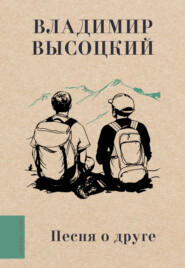По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. Проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так что – не убий, и все тут. Я ни за что не пойду в столовую! Там психи едят и чавкают. Не уверяйте меня, именно чавкают, и вдобавок хлюпают! Ага! Эврика! Несмотря на разницу в болезнях – шизофрения там, паранойя и всякая другая гадость, – у них есть одно, вернее, два общих качества. Они все хлюпики и чавкики. Вот. И я к ним не пойду, я лучше возьму сухим пайком, имею я в конце концов право на сухой! У вас здесь и так все сухое: закон и персонал обслуживающий. И я требую сухой паек! Нет? Тогда голодовка, только голодовка может убедить вас в том, что личность – это не жрущая тварь, а нечто, т‹о› е‹сть› даже значительно нечто большее.
Да! Да! Благодарю! Я и буду голодать на здоровье. Читали историю КПСС (нет, старую)? Там многие голодали, и, заметьте, с успехом. А один доголодался до самых высоких постов и говорил с грузинским акцентом. Он уже, правда, умер, и тут только выяснилось, что голодовки были напрасны. Но ведь это через 40 почти лет! Ничего, лучше жить 40 лет на коне, чем без щита. Я лучше поживу, а потом уж после смерти пущай говорят: вон он-де голодал и поэтому умер. Пусть говорят, хоть и в сумасшедшем доме. Мне хватит этих 40.
Зовут на прогулку. Там опять они, они, эти люди, которых зовут не иначе как «больной» и обращаются ласково, до ужаса ласково. Пойду. От судьбы не уйдешь! Ни от своей, ни от мировой. Тем более что наши судьбы – как две большие параллели.
Вот лексикон. Надо запомнить, и все станет на место: мы называемся «чума», а есть еще алкоголики. Вот и все. Надо же, как просто!
На улице слякоть, гололед, где-то ругаются шоферы и матерятся падающие женщины, а мужчины (не падающие) вовсе и не подают им рук, а стараются рассмотреть цвет белья или – того хуже – ничего не стараются: так идут и стремятся, не упасть стремятся. Упадешь – и тебя никто не подымет: сам упал – сам вставай. Закон, загон, полигон, самогон, ветрогон, алкогон и просто гон.
– А вы знаете?! Я ведь начальник Галактики. Это очень, очень много. А вы, ну что вы?
– А я начальник Вселенной.
– Этого не может быть: Галактика – это и есть Вселенная. А тут не может быть двух начальников одновременно.
– Извините, я позвоню домой… Мария! Это я! Что же ты? Да? А кефир? – я не могу без кефира, все кругом смеются, что я без кефира, а я без кефира! Жду!.. Так вы утверждаете, что Галактика и Вселенная – одно и то же. Позвольте заметь вам, что это не так. Это все равно что ну… Галактика – это только завтрак, зато Вселенная – это много завтраков, обедов и ужинов в течение неограниченного времени. И я начальник всего этого, так что, прошу вас, отойдите и не мешайте. Меня ждут дела.
Каждый человек может делать то, что хочет или не хочет его начальник. Есть такой закон. А если начальника нет, то и закона нет, и человека, следовательно, тоже, ничего нет. Есть дома, окна, машины, а более ничего. Нуль. Один всемирный нуль, как бублик, который никто не съест, потому что он не бублик вовсе, а нуль. Нуль.
Хватит, так нельзя. Врач запретил мыслить такими громадными категориями. Можно сойти с ума и… тогда прощай гололед, метро и пивные, тогда все время – это одно: психи, врачи, телевизор и много завтраков, обедов и ужинов, т‹о› е‹сть› Вселенная. Сгинь! Сгинь! Сгинь, нечистая сила! Нечистая сила – это грязный Жаботинский. Есть такое сравнение. Сгинь, грязный Жаботинский!
Вот еще был такой случай. Двое пили, пили и все пропили и с себя, и с окружающих. С окружающих их семей – отцов, матерей, жен и детей. Это с деток-то! Изверги! Детки-то ведь ручонки тянут, зябнут, есть просят, а им и во двор-то похулиганить выйти не в чем. А они пропили все – в дым, в стельку, в дупель, вусмерть и еще в бабушку и в бога душу (Маяковский). Душегубы!
Словом, вопрос возник: как быть, что пить, – нечего пить, потому ‹что› не на что купить, а ограбить боязно – дадут по морде и бутылку на сдачу посуды отберут.
Один, который старше и трезвый, говорит:
– Пошли кровь сдавать – четвертый эффект: уважать будут – раз и три сотни дадут – четыре.
Пошли. Одному р-р-раз иголку в руку, и качают, и качают. Насосом в две руки. Он хлоп – и в обморок: не вынес равнодушия. Ни тебе уважения и трехсот. Оказалось, откачали на сотню. Они две бутылки купили, пьют и плачут. А друг говорит:
– Твою кровь пьем, Ваня! Кровь людская не водица – она водка, Ваня, водка она, кровь, и ничего более.
– А ты всегда, Вася, кровь мою не водицу пил. Пил и не закусывал. Кровопивец ты и есть. Сволочь ты, и нет тебе моего снисхождения. Получай! – говорит, руку-то поднял, а ударить не может, ослаб.
А тот и не слышал ничего. Спал. На сосисках спал и кровь даже не допил. Может, пожалел! А?
Когда профессор под охраной дельфина двинулся вперед по коридору, ведущему в океанариум, пришедший в себя труженик науки хотел было взять на себя инициативу и уже потянулся даже к кнопке. Вот! Сейчас, одно нажатие – и сработают вмонтированные в мозг электроды раздражения, и идущий сзади парламентер ощутит приятное покалывание и уснет, и все уснут, и можно будет немного поразмыслить над случившимся, а потом уже бить во все колокола, и запатентовать, и пресс-конференции, а потом – домик с садом, и уйти в работу с головой, и исследовать, исследовать, резать их, милых, и смотреть, как это они сами вдруг…
Мысли эти пронеслись мгновенно, но вдруг голос – именно голос – китообразно пропищал:
– Напрасно стараетесь, профессор. Наша медицина шагнула далеко вперед, электроды изъяты, это ваше наследие теперь вспоминается только из-за многочисленных рубцов в голове и на теле. Идите и не оглядывайтесь!
Они остановились у входа, над которым горела надпись: «Вход воспрещен посторонним и любопытным», ниже еще одна: «Добро пожаловать», а уж совсем внизу и мелко: «Наш лозунг – ласка, и только ласка, как первый шаг к взаимопониманию».
Дверь распахнулась – и глазам профессора предстало продолжение его страшного сна. Боже, какое это было продолжение!
Весь океанариум кипел, бурлил и курлыкал. Можно даже было различить отдельные выкрики – что-то очень агрессивное и на самых высоких нотах. Три полосатых кита, любимцы города, которые до того, до случившегося, мирно выполняли балетные па, поставленные лучшим балетмейстером и любителем животных одновременно, – эти три кита океанариума, как бы забыв всякие навыки, кувыркались и бились о стены, но все это весело и как-то даже ожесточенно весело.
Все дельфины-белобочки сбились в кучу и, громко жестикулируя, – нет, жестикулировать, собственно, им зачем, – громко крича на чистом человечьем языке, ругали его, профессора страшными словами, обзывали мучителем людей, то есть дельфинов, и кто-то даже вспомнил Освенцим и крикнул: «Это не должно повториться!» Один обалдевший от счастья дельфин, прекрасный представитель вида ‹…›, которому, видимо, только что вынул электрод собрат его по – да-да! – по разуму (теперь в этом можно не сомневаться), – этот дельфин делал громадные круги, подобно торпеде, нырял, выпрыгивал вверх, и тогда можно было разобрать: «Долой общение, никаких контактов!» – и что-то еще. Дельфины-лоцманы пели песню «Вихри враждебные» и в такт ныряли на глубину, потом выныривали, подобно мячам, если их утопить и неожиданно отпустить, и затягивали что-то новое, видимо уже сочиненное ими; какой-то дельфиний гам – нет, гимн – разлился вокруг:
Наши первые слова:
Люди, люди, что вы!
Но они не вняли нам, —
Будьте же готовы!
Вся баскетбольная команда перекидывала мячи через сетку, специально в нее не попадая и от этого находясь в блаженном идиотизме, что видно было по их смеющимся рожам.
Кругом царила картина радостного хаоса и какого-то жуткого напряжения, даже ожидания.
Хорошо, что толстые стены заглушали этот вой, треск, писк, доходящий до ультразвука, но что, если вынесет наружу?! Там, там ведь акулы и кашалоты, касатки, спруты – бр-р-ра! Профессор даже сжал зубы и сломал вставную челюсть. Он все-таки вынул ее и вдруг остолбенел.
Во всем хаосе этом, среди всей этой культурной революции только одно существо было спокойно и невозмутимо. Это был служитель. Он сидел – нет, он стоял, – словом, он как-то находился в пространстве и невидящими глазами смотрел вокруг!
– Что с вами? Вы сошли с ума! Идите сейчас же спать. Я побуду вместо вас, я прослежу за ни… – Профессор услышал сзади позвякивание трезубца и вспомнил, что следить уже, собственно, не за кем, и если ‹следить, то› уж кто за кем следит!
– Как вы смели оскорблять животных!
Боже! Он опять забылся. Какой-то дельфин юркнул к борту, нажал на датчик, и в ту же секунду служитель бросился на профессора, выхватил у него, оторопевшего, из рук челюсть и растоптал ее прямо на глазах на дорожке у бассейна.
Это категорически воспрещалось, и профессор все понял: они сделали с ним то же, что мы до этого делали с ними. Он вмонтировали в него… Какой ужас! Да и за такой короткий срок исследовали и научились управлять… Кошмар!
– Да? А почему же это не было кошмаром, когда все было наоборот? – пропищал над ухом тонкий голос, но этот голос показался профессору уже противным. – Ну! Ответьте!
Он резко обернулся – на уровне его головы стояла морда одного из трех китов (он, конечно, опирался на двух других).
«Так! Это совсем худо! Эдак они научатся передвигаться по суше!» – машинально подумал профессор.
– Конечно! И очень скоро! – Голос принадлежал киту.
«Никогда не думал, что у такого милого животного будет такой противный голос», – опять подумал профессор.
– Но-но! Советую не шутить. – И кит показал профессору вмонтированный в плавник зуб акулы. – Я уже сделал им довольно много операций, и, заметьте, все успешно и бескровно. Но я могу и ошибиться. – Кит мерзко захихикал, а профессор постарался не отмечать про себя ничего лишнего, только одно напоследок: «Э! Да он еще и телепат».
– И очень давно. – Кит кашлянул и снял улыбку. А может, и не снял, черт его знает, только он насупился и произнес кому-то внизу: – Хватит! Он все понял, – и тут же с треском исчез.
– Что вы хотите от меня? – выдохнул профессор.
– Я уже объяснил вам в довольно доступной форме, – сказал дельфин с трезубцем.
– Ну хорошо! Так! Господа!..
– К черту господ! – рявкнул бассейн.
– Друзья!
– Долой дружбу ходящих по суше!