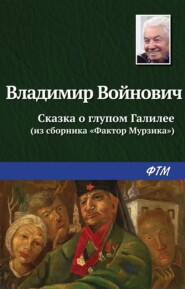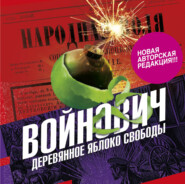По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Замысел
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я не верю, что бог следит за нашими поступками и потом, после смерти, будет нам воздавать по заслугам. Неужели он не выше этого? Если ему не нравится наше поведение, то почему бы ему нас не переделать, не сделать хорошими? Ах да. Он наделил нас волей. А кто вам это сказал? Нет никаких доказательств, что любой совершаемый нами поступок совершается нами сознательно, а не предопределен кем-то заранее.
Немецкие шутки
Немецкий язык – один из, наверное, очень немногих в мире, в котором фактически нет матерных слов. Есть слово «фикен», но мужской орган они называют «шванц» (то же, что хвост), а женский обозначают словом «мушель» (раковина). Один германофил, приходящий в восторг от каждого звука немецкой речи, уверяя меня в превосходстве здешнего языка перед нашим, приводил в пример именно слово «мушель».
– Ты видишь, – говорил он, – насколько это слово точно соответствует обозначаемому предмету. Ведь он действительно похож на раковину.
Я возразил, что наибольшая точность в языке достигается только тогда, когда для каждого отдельного предмета находится свое отдельное слово, а не приблизительные аналоги.
Самые грубые, но употребляемые постоянно немецкие слова – «арш» и «шайзе». Но зато эти слова вызывают очень много эмоций и ассоциаций и присутствуют в девяноста процентах немецких шуток.
В больнице я несколько раз смотрел популярную телевизионную программу «Verstehen Sie Spabeta?» («Понимаете ли вы шутки?»). Шутки основаны на том, что член телевизионной команды вступает в отношения со случайно встреченным и снимаемым скрытой камерой человеком и каким-то образом ставит его в неловкое положение. Ну, например, в магазине продавщицу просят положить яйца на какую-то полку. Она кладет (так специально подстроено), полка рушится, все яйца разбиваются. Она в ужасе, но ей надо работать, она следующую упаковку кладет очень осторожно на другую полку, но и та рушится. Продавщица готова заплакать, но тут появляются телевизионщики и объясняют, что это была всего-навсего шутка, и если она смеется, значит, относится к понимающим шутки.
Или такая шутка. На швейцарской границе немецкого туриста или туристку останавливает человек в форме полицейского и просит предъявить коробку с медицинским набором на случай аварии. Затем спрашивает: «А где ваши презервативы?» – «Какие презервативы?» – «Вы разве не знаете? В связи с распространением СПИДа в Швейцарии принят закон, что все приезжие должны иметь с собой презервативы». Девушка, от которой потребовали предъявить презервативы, настолько растерялась, что не находит слов. Старик, к которому пристали с тем же, начал спорить: «Зачем презервативы, я старый человек, у меня в машине сидит моя жена, тоже старуха. Мы давно этим друг с другом не занимаемся, а уж с кем-то еще…» – «Нет, – настаивает псевдополицейский, – вы должны иметь презервативы, и вы можете купить их прямо у меня, три марки штука». Старик, недоумевая, сдается и платит три марки за упаковку с изображенным на ней швейцарским крестом. В это время из кустов выскакивает с микрофоном знаменитый ведущий этой программы, старик узнает его и громко смеется.
И вот коронный номер в лифте со скрытой камерой. Девушка оказалась вдвоем с незнакомым толстым мужчиной и тот неожиданно громко пукает. Девушка делает вид, что не слышит. Он пукает еще раз и объясняет ей, что съел слишком много лука. Девушка, не зная, как реагировать, закатывает глаза. Ту же шутку тот же человек проделывает в том же лифте с китайцем и объясняет, что съел много лука. Китаец по-английски сердито говорит, что не понимает немецкого, и выскакивает при первой возможности.
Несколько таких шуток собирают в один фильм, который показывают зрителям в большом театральном зале и передают по телевидению.
Такой вот юмор.
Девяносто девять из ста остаются в живых
После обследования, проведенного с применением новейшей диагностической аппаратуры и введением в сердце катетера, больного в сопровождении швестер Моники и дюжины заглядывающих ему в рот практикантов навестил лично профессор Центра сердечно-сосудистой хирургии Финкенцеллер. Если кого интересует (меня интересует) этимология слова, ставшего этой фамилией, то оно происходит из двух корней и приблизительно означает «Делающий клетки для зябликов». Или буквальное: «Зябликовый клеточник». Профессор поздоровался, спросил про перестройку, гласность, Горбачева и Раису Горбачеву (sehr hьbsch[5 - Sehr hьbsch – очень красивая, прелестная (нем.).]), пощупал пульс, затем предложил каждому из студентов тоже пощупать, при этом что-то им объясняя. Затем, выгнав их всех и швестер Монику в коридор, профессор присел на край койки, взял руку больного в свою и мягким голосом сказал, что больной находится в худшем состоянии, чем можно судить по внешнему виду, артерии сердца почти полностью закупорены, если ничего не делать, то наиболее вероятный прогноз: в ближайшие дни обширный инфаркт и, увы – профессор привел выражение своего лица в соответствие со смыслом слов, – летальный исход.
Услышав такое, больной, как ни странно, вовсе не испугался. Даже наоборот, как бы загордился и приосанился. Летальный – это звучит красиво и очень значительно. Это не то, что просто умереть или тем более сыграть в ящик, отдать концы, дать дуба, откинуть копыта или что там еще? Слова «летальный исход» навевают представление о каком-то необыкновенном, волшебном полете.
– Но, – сказал профессор, – у нас есть хороший шанс вас спасти. Мы можем сделать вам операцию. Из ноги вынем вену, порежем на куски, сюда вставим… Это рискованно, но…
– Какая степень риска? – поинтересовался больной.
– Примерно один процент. То есть девяносто девять пациентов из ста остаются в живых.
– Ну, что ж, – склонился к согласию пациент. – Давайте рискнем.
– Вот и хорошо, – заторопился профессор. – Я думаю, это наиболее разумное решение. – И тут же сунул на подпись неизвестно откуда извлеченную бумагу, что в случае чего никаких претензий со стороны летально исшедшего не последует. С этой бумагой профессор так суетился, что у больного мелькнуло невольное подозрение: а нет ли тут какого подвоха. За годы жизни в Германии он то и дело, не извлекая из опыта никакого урока, подписывал какие-то бумаги автоматически, привезя с собой привычки, выработанные в мире, где всякие обязательства, в том числе и закрепленные подписью, мало что значат. Но здесь они как раз что-то значили. В первую очередь их значение проявлялось в том, что с его банковского счета бесконечно снимались платы за подписку на какие-то журналы, от которых он никак не мог потом отвязаться, за обслуживание копировальной машины, которой у него давно не было, за членство в обществе самаритян, о которых он знал только, что к городу Самаре они никакого отношения не имеют.
Больной насторожился и решил для начала изучить бумагу внимательно. Но текст был длинный и не во всех пунктах понятный, и словаря под рукой не было, а профессор стоял над душой, то есть как раз сложилась такая обстановка, при которой он и прежние бумаги подписывал.
Больной взял услужливо протянутую ему ручку и коряво вывел свою фамилию, которая в немецком исполнении удлинялась на целых три буквы.
И сразу полегчало. Теперь осталось положиться на судьбу и на мастерство профессора Финкенцеллера, а там – будь что будет. В конце концов, мы все все равно приговорены к смертной казни, и наши заботы о собственном здоровье есть попытка всего лишь отсрочить, а не отменить исполнение приговора.
А один все-таки умирает
Швестер Луиза – деревенская женщина лет сорока с квадратной фигурой и лицом настолько рязанским, что кажется странным, как это она ни слова не понимает по-русски. Она пессимистка, в благополучный исход чего бы то ни было, кажется, вообще никогда не верит, а своим пациентам пророчит самое худшее. Мне, когда я еще только-только был сюда привезен, сказала, подвешивая капельницу, что у меня, очевидно, обширный инфаркт, и врачи, конечно, сделают все, что смогут, но… Хорошо, что я оказался не столь впечатлительным, как наш знаменитый актер, который несколькими годами позже выслушал в лондонской больнице подобный диагноз и немедленно умер.
После ухода профессора Финкенцеллера Луиза ввезла на тележке обед и поинтересовалась:
– Ну что сказал доктор? Плохо, да?
– Он сказал, что нужна операция.
– О! – Луиза затрясла головой. – Операция – это очень опасно. Это ведь все-таки открытое сердце. Я раньше работала в хирургии, я там кое-чего насмотрелась. Вам грудную клетку разрежут циркулярной пилой…
И стала с большим удовольствием нагружать меня информацией о подробностях. Меня усыпят, положат, сделают надрез, потом включат циркулярную пилу. Грудную клетку резать не так-то просто, пила визжит, перегревается, пахнет дымом, горелым мясом, кровь брызжет в разные стороны, иногда даже заляпывает хирургу глаза. Потом все ребра вот так раздвинут, сердце вынут и перережут артерии. А вместо них из ноги вынут вену…
– Но, – перебил я Луизу, – профессор сказал, что девяносто девять человек из ста выживают.
– Конечно, конечно, – согласилась Луиза, – девяносто девять выживают. – И тут же покачала головой. – А кто-то один все-таки помирает.
Впрочем, она же сказала мне, что у нее есть друг, который после такой же операции ездит на велосипеде по сорок километров в день очень быстро и хорошо себя чувствует…
Интеллектуальная собственность
В дни между назначением операции и ее проведением больного посетили сначала священник с вопросом, нет ли желания причаститься, а затем нотариус с предложением составить завещание. От священника больной отказался, полагая, что общаться с Высшей Инстанцией лучше всего без посредников, а насчет завещания задумался.
Прожив ко времени операции 56 без малого лет, работая с раннего детства, будучи довольно известным даже в мировом масштабе писателем, больной, как он сам с удивлением обнаружил, весьма не преуспел в накоплении предметов материального достатка. Какие-то кавказские мудрецы придумали, что мужчина может считать жизнь свою прошедшей не зря только в том случае, если родил сына, построил дом и посадил дерево. Сына пациент наш родил. Родил еще двух дочерей, но они у составителей данной мудрости в счет не идут. Деревья какие-то сажал на каких-то субботниках. А вот дома нет, не построил, жил в чужом. Не владел никакими ценностями дороже подержанного автомобиля, в банке имел минус четыре тысячи марок, и единственным его богатством было то, что, как он потом узнал, называется интеллектуальной собственностью. Эта собственность представляла собой несколько уже написанных книг и порядочное количество бумаг, которые в папках, в чемоданах, в мешках, на полках, в шкафах и просто под кроватью захламляли те помещения, где приходилось обитать нашему автору.
Варианты «Чонкина». Незаконченные большие куски и мелкие наброски. Развитие главного сюжета, бесчисленные ответвления от него. И вот самый исток замысла.
Приближение к замыслу
Я стоял на углу площади Разгуляй и пил газированную воду. Был 1958 год, жаркий день в середине лета. Я стоял на углу площади. Не на том углу, где строительный институт, а как раз напротив, где овощной магазин. Была середина лета, жара, пахло выхлопными газами, разогретым асфальтом и капустой «провансаль». Запах этой капусты шел из открытых дверей овощного магазина, возле которого я как раз и стоял.
Капуста «провансаль» была в те годы незаменимой закуской ко всякому столу, а уж к нашему, тогдашнему, тем более. Когда я работал плотником и потом учился в пединституте, питание мое состояло в основном из рожек или рожков, не знаю, как в родительном падеже называются эти макароны, короткие и крученые, похожие на рубленых толстых высушенных червей. Вкушающему рожки впервые они могут показаться даже деликатесом, но когда жуешь их, сваренные на воде и без всякой приправы, ежедневно неделю, и две, и три, то от этой преснятины воротить начинает. Но зато уж с аванса, с получки или со стипендии раскошелишься на бутылку водки и возьмешь этой самой капусты «провансаль», с яблоками, брусникой, и клюквой, и чем-то еще… ну ладно, хватит об этом.
Итак, я стоял на углу площади Разгуляй возле овощного магазина, где продавали капусту «провансаль». Я стоял, пил газированную воду без сиропа, пять копеек стакан, хотя мог бы позволить себе и с сиропом «крюшон» за сорок копеек. Мог бы, но не позволил и пил без сиропа воду, которая накачивалась углекислым газом и превращалась в горьковатый пузырящийся колкий напиток. Газ поступал из стоячего баллона с резиновыми шлангами и проходил через сатуратор, нелепое сооружение на двух велосипедных колесах, ассоциативно вызывавшее ностальгию по временам бипланов, паровозов и немого кино.
Я пил газированную воду и краем уха вслушивался в разговор между газировщицей и другой какой-то тетей, сочувственно внимавшей и цокавшей языком и восклицавшей время от времени «Да что ты!». Газировщица была возраста лет под сорок, упитанная, широкая в плечах и боках, она сидела на маленькой табуретке, и зад сползал со всех сторон с табуретки, словно тесто за край квашни.
Газировщица говорила, а руки ее, пухлые, мокрые, красные, с короткими пальцами, ловко управлялись со всеми возложенными на них обязанностями: принимали мелочь, отсчитывали сдачу, обмывали стаканы на колесике-фонтане, дававшем восходящие струи, отмеряли темно-красный сироп из стеклянных цилиндриков с метками и затем открывали кран, откуда ударяла в стакан и шипела тугая струя.
Был жаркий день в середине лета, я стоял на углу площади Разгуляй, пил газированную воду и пассивно внимал разговору, вяло текущему мимо ушей.
– Ничего с ним поделать не могу, не слушается меня, паразит, и все. А что я могу ему сделать, если он здоровый как слон. Четырнадцать лет, а уже ботинки, поверишь ли, сорок третий размер и малы. И все радости: школу пропускает, курит, пьет, дома то ночует, то нет. Уже два привода имеет. На той неделе участковый приходил, вы, говорит, Анна, если не примете мер, сына упустите. Упустите, говорит, сына упустите. В колонию попадет, а там уже все. Там его и воровать научат, и грабить, и убивать, да еще, за отсутствием женской ласки, в пидарасы заделают. О господи, сколько я ночей проплакала, сколько слез пролила, сколько глотку криком драла, а все без толку. Был бы отец, дал бы ему ремня, а от моего крика что пользы…
– А где отец? – спросила слушательница.
– На фронте погиб, – вздохнула газировщица, скидывая мелочь в тарелку. – Полковник был. Как в первый день войны ушел, так и с концами.
Я пил воду, краем равнодушного уха улавливал разговор, особо в него не вникая. Но, имея автоматическую привычку манипулировать простыми числами, отнял от пятидесяти восьми четырнадцать, отнял еще девять месяцев и получилось, что ну никак не мог юный злостный курильщик, хулиган и будущий педераст родиться от полковника, пропавшего в начале войны.
Ставя на место стакан, я посмотрел на газировщицу и подумал, что все она врет. Не было у нее никакого полковника и вообще никакого такого человека, которого можно называть мужем, а был кто-нибудь торопливый из нижних чинов, который вступает со случайными дамами в связь, имея в виду, что, по солдатскому грубому выражению, «наше дело не рожать: сунул, вынул и – бежать».
Имея за плечами какой-никакой жизненный опыт, встречал я в процессе его приобретения разных людей, в том числе и таких вот горемык женского пола. Они никогда не достигли своей изначальной мечты о заботливом муже и благополучной семейной жизни, им перепали всего лишь случайные и торопливые радости соития где-нибудь в сенях, в подъезде, на сеновалах, в кустах, в кукурузе, а то и просто посреди поля на колючей стерне, иногда и с последствиями. В колхозах, строительных общежитиях, при армейских кухнях видел наш сочинитель стареющих и неутешенных как бы вдов, они, не испытав реального счастья, сочиняли себе легенды и жили выдуманным прошлым, как будто всамделишным. Все-все плели они одну и ту же историю безумной любви и радостного замужества, которое кончилось с началом войны: его забрали, и он погиб, причем обязательно в чине полковника. Ниже нельзя, не интересно, а выше фантазия не поднималась, да и кто же поверит?
Эти сказки рассказывали они, зазывая к себе голодных до женского тела солдат. Которые если и приносили с собой бутылку водки, то и спасибо – месячное солдатское жалованье все на эту одну бутылку и уходило. Так что иные, прижимистые, и вовсе на посещение соглашались при известном условии: поставишь пол-литра – приду.
Немецкие шутки
Немецкий язык – один из, наверное, очень немногих в мире, в котором фактически нет матерных слов. Есть слово «фикен», но мужской орган они называют «шванц» (то же, что хвост), а женский обозначают словом «мушель» (раковина). Один германофил, приходящий в восторг от каждого звука немецкой речи, уверяя меня в превосходстве здешнего языка перед нашим, приводил в пример именно слово «мушель».
– Ты видишь, – говорил он, – насколько это слово точно соответствует обозначаемому предмету. Ведь он действительно похож на раковину.
Я возразил, что наибольшая точность в языке достигается только тогда, когда для каждого отдельного предмета находится свое отдельное слово, а не приблизительные аналоги.
Самые грубые, но употребляемые постоянно немецкие слова – «арш» и «шайзе». Но зато эти слова вызывают очень много эмоций и ассоциаций и присутствуют в девяноста процентах немецких шуток.
В больнице я несколько раз смотрел популярную телевизионную программу «Verstehen Sie Spabeta?» («Понимаете ли вы шутки?»). Шутки основаны на том, что член телевизионной команды вступает в отношения со случайно встреченным и снимаемым скрытой камерой человеком и каким-то образом ставит его в неловкое положение. Ну, например, в магазине продавщицу просят положить яйца на какую-то полку. Она кладет (так специально подстроено), полка рушится, все яйца разбиваются. Она в ужасе, но ей надо работать, она следующую упаковку кладет очень осторожно на другую полку, но и та рушится. Продавщица готова заплакать, но тут появляются телевизионщики и объясняют, что это была всего-навсего шутка, и если она смеется, значит, относится к понимающим шутки.
Или такая шутка. На швейцарской границе немецкого туриста или туристку останавливает человек в форме полицейского и просит предъявить коробку с медицинским набором на случай аварии. Затем спрашивает: «А где ваши презервативы?» – «Какие презервативы?» – «Вы разве не знаете? В связи с распространением СПИДа в Швейцарии принят закон, что все приезжие должны иметь с собой презервативы». Девушка, от которой потребовали предъявить презервативы, настолько растерялась, что не находит слов. Старик, к которому пристали с тем же, начал спорить: «Зачем презервативы, я старый человек, у меня в машине сидит моя жена, тоже старуха. Мы давно этим друг с другом не занимаемся, а уж с кем-то еще…» – «Нет, – настаивает псевдополицейский, – вы должны иметь презервативы, и вы можете купить их прямо у меня, три марки штука». Старик, недоумевая, сдается и платит три марки за упаковку с изображенным на ней швейцарским крестом. В это время из кустов выскакивает с микрофоном знаменитый ведущий этой программы, старик узнает его и громко смеется.
И вот коронный номер в лифте со скрытой камерой. Девушка оказалась вдвоем с незнакомым толстым мужчиной и тот неожиданно громко пукает. Девушка делает вид, что не слышит. Он пукает еще раз и объясняет ей, что съел слишком много лука. Девушка, не зная, как реагировать, закатывает глаза. Ту же шутку тот же человек проделывает в том же лифте с китайцем и объясняет, что съел много лука. Китаец по-английски сердито говорит, что не понимает немецкого, и выскакивает при первой возможности.
Несколько таких шуток собирают в один фильм, который показывают зрителям в большом театральном зале и передают по телевидению.
Такой вот юмор.
Девяносто девять из ста остаются в живых
После обследования, проведенного с применением новейшей диагностической аппаратуры и введением в сердце катетера, больного в сопровождении швестер Моники и дюжины заглядывающих ему в рот практикантов навестил лично профессор Центра сердечно-сосудистой хирургии Финкенцеллер. Если кого интересует (меня интересует) этимология слова, ставшего этой фамилией, то оно происходит из двух корней и приблизительно означает «Делающий клетки для зябликов». Или буквальное: «Зябликовый клеточник». Профессор поздоровался, спросил про перестройку, гласность, Горбачева и Раису Горбачеву (sehr hьbsch[5 - Sehr hьbsch – очень красивая, прелестная (нем.).]), пощупал пульс, затем предложил каждому из студентов тоже пощупать, при этом что-то им объясняя. Затем, выгнав их всех и швестер Монику в коридор, профессор присел на край койки, взял руку больного в свою и мягким голосом сказал, что больной находится в худшем состоянии, чем можно судить по внешнему виду, артерии сердца почти полностью закупорены, если ничего не делать, то наиболее вероятный прогноз: в ближайшие дни обширный инфаркт и, увы – профессор привел выражение своего лица в соответствие со смыслом слов, – летальный исход.
Услышав такое, больной, как ни странно, вовсе не испугался. Даже наоборот, как бы загордился и приосанился. Летальный – это звучит красиво и очень значительно. Это не то, что просто умереть или тем более сыграть в ящик, отдать концы, дать дуба, откинуть копыта или что там еще? Слова «летальный исход» навевают представление о каком-то необыкновенном, волшебном полете.
– Но, – сказал профессор, – у нас есть хороший шанс вас спасти. Мы можем сделать вам операцию. Из ноги вынем вену, порежем на куски, сюда вставим… Это рискованно, но…
– Какая степень риска? – поинтересовался больной.
– Примерно один процент. То есть девяносто девять пациентов из ста остаются в живых.
– Ну, что ж, – склонился к согласию пациент. – Давайте рискнем.
– Вот и хорошо, – заторопился профессор. – Я думаю, это наиболее разумное решение. – И тут же сунул на подпись неизвестно откуда извлеченную бумагу, что в случае чего никаких претензий со стороны летально исшедшего не последует. С этой бумагой профессор так суетился, что у больного мелькнуло невольное подозрение: а нет ли тут какого подвоха. За годы жизни в Германии он то и дело, не извлекая из опыта никакого урока, подписывал какие-то бумаги автоматически, привезя с собой привычки, выработанные в мире, где всякие обязательства, в том числе и закрепленные подписью, мало что значат. Но здесь они как раз что-то значили. В первую очередь их значение проявлялось в том, что с его банковского счета бесконечно снимались платы за подписку на какие-то журналы, от которых он никак не мог потом отвязаться, за обслуживание копировальной машины, которой у него давно не было, за членство в обществе самаритян, о которых он знал только, что к городу Самаре они никакого отношения не имеют.
Больной насторожился и решил для начала изучить бумагу внимательно. Но текст был длинный и не во всех пунктах понятный, и словаря под рукой не было, а профессор стоял над душой, то есть как раз сложилась такая обстановка, при которой он и прежние бумаги подписывал.
Больной взял услужливо протянутую ему ручку и коряво вывел свою фамилию, которая в немецком исполнении удлинялась на целых три буквы.
И сразу полегчало. Теперь осталось положиться на судьбу и на мастерство профессора Финкенцеллера, а там – будь что будет. В конце концов, мы все все равно приговорены к смертной казни, и наши заботы о собственном здоровье есть попытка всего лишь отсрочить, а не отменить исполнение приговора.
А один все-таки умирает
Швестер Луиза – деревенская женщина лет сорока с квадратной фигурой и лицом настолько рязанским, что кажется странным, как это она ни слова не понимает по-русски. Она пессимистка, в благополучный исход чего бы то ни было, кажется, вообще никогда не верит, а своим пациентам пророчит самое худшее. Мне, когда я еще только-только был сюда привезен, сказала, подвешивая капельницу, что у меня, очевидно, обширный инфаркт, и врачи, конечно, сделают все, что смогут, но… Хорошо, что я оказался не столь впечатлительным, как наш знаменитый актер, который несколькими годами позже выслушал в лондонской больнице подобный диагноз и немедленно умер.
После ухода профессора Финкенцеллера Луиза ввезла на тележке обед и поинтересовалась:
– Ну что сказал доктор? Плохо, да?
– Он сказал, что нужна операция.
– О! – Луиза затрясла головой. – Операция – это очень опасно. Это ведь все-таки открытое сердце. Я раньше работала в хирургии, я там кое-чего насмотрелась. Вам грудную клетку разрежут циркулярной пилой…
И стала с большим удовольствием нагружать меня информацией о подробностях. Меня усыпят, положат, сделают надрез, потом включат циркулярную пилу. Грудную клетку резать не так-то просто, пила визжит, перегревается, пахнет дымом, горелым мясом, кровь брызжет в разные стороны, иногда даже заляпывает хирургу глаза. Потом все ребра вот так раздвинут, сердце вынут и перережут артерии. А вместо них из ноги вынут вену…
– Но, – перебил я Луизу, – профессор сказал, что девяносто девять человек из ста выживают.
– Конечно, конечно, – согласилась Луиза, – девяносто девять выживают. – И тут же покачала головой. – А кто-то один все-таки помирает.
Впрочем, она же сказала мне, что у нее есть друг, который после такой же операции ездит на велосипеде по сорок километров в день очень быстро и хорошо себя чувствует…
Интеллектуальная собственность
В дни между назначением операции и ее проведением больного посетили сначала священник с вопросом, нет ли желания причаститься, а затем нотариус с предложением составить завещание. От священника больной отказался, полагая, что общаться с Высшей Инстанцией лучше всего без посредников, а насчет завещания задумался.
Прожив ко времени операции 56 без малого лет, работая с раннего детства, будучи довольно известным даже в мировом масштабе писателем, больной, как он сам с удивлением обнаружил, весьма не преуспел в накоплении предметов материального достатка. Какие-то кавказские мудрецы придумали, что мужчина может считать жизнь свою прошедшей не зря только в том случае, если родил сына, построил дом и посадил дерево. Сына пациент наш родил. Родил еще двух дочерей, но они у составителей данной мудрости в счет не идут. Деревья какие-то сажал на каких-то субботниках. А вот дома нет, не построил, жил в чужом. Не владел никакими ценностями дороже подержанного автомобиля, в банке имел минус четыре тысячи марок, и единственным его богатством было то, что, как он потом узнал, называется интеллектуальной собственностью. Эта собственность представляла собой несколько уже написанных книг и порядочное количество бумаг, которые в папках, в чемоданах, в мешках, на полках, в шкафах и просто под кроватью захламляли те помещения, где приходилось обитать нашему автору.
Варианты «Чонкина». Незаконченные большие куски и мелкие наброски. Развитие главного сюжета, бесчисленные ответвления от него. И вот самый исток замысла.
Приближение к замыслу
Я стоял на углу площади Разгуляй и пил газированную воду. Был 1958 год, жаркий день в середине лета. Я стоял на углу площади. Не на том углу, где строительный институт, а как раз напротив, где овощной магазин. Была середина лета, жара, пахло выхлопными газами, разогретым асфальтом и капустой «провансаль». Запах этой капусты шел из открытых дверей овощного магазина, возле которого я как раз и стоял.
Капуста «провансаль» была в те годы незаменимой закуской ко всякому столу, а уж к нашему, тогдашнему, тем более. Когда я работал плотником и потом учился в пединституте, питание мое состояло в основном из рожек или рожков, не знаю, как в родительном падеже называются эти макароны, короткие и крученые, похожие на рубленых толстых высушенных червей. Вкушающему рожки впервые они могут показаться даже деликатесом, но когда жуешь их, сваренные на воде и без всякой приправы, ежедневно неделю, и две, и три, то от этой преснятины воротить начинает. Но зато уж с аванса, с получки или со стипендии раскошелишься на бутылку водки и возьмешь этой самой капусты «провансаль», с яблоками, брусникой, и клюквой, и чем-то еще… ну ладно, хватит об этом.
Итак, я стоял на углу площади Разгуляй возле овощного магазина, где продавали капусту «провансаль». Я стоял, пил газированную воду без сиропа, пять копеек стакан, хотя мог бы позволить себе и с сиропом «крюшон» за сорок копеек. Мог бы, но не позволил и пил без сиропа воду, которая накачивалась углекислым газом и превращалась в горьковатый пузырящийся колкий напиток. Газ поступал из стоячего баллона с резиновыми шлангами и проходил через сатуратор, нелепое сооружение на двух велосипедных колесах, ассоциативно вызывавшее ностальгию по временам бипланов, паровозов и немого кино.
Я пил газированную воду и краем уха вслушивался в разговор между газировщицей и другой какой-то тетей, сочувственно внимавшей и цокавшей языком и восклицавшей время от времени «Да что ты!». Газировщица была возраста лет под сорок, упитанная, широкая в плечах и боках, она сидела на маленькой табуретке, и зад сползал со всех сторон с табуретки, словно тесто за край квашни.
Газировщица говорила, а руки ее, пухлые, мокрые, красные, с короткими пальцами, ловко управлялись со всеми возложенными на них обязанностями: принимали мелочь, отсчитывали сдачу, обмывали стаканы на колесике-фонтане, дававшем восходящие струи, отмеряли темно-красный сироп из стеклянных цилиндриков с метками и затем открывали кран, откуда ударяла в стакан и шипела тугая струя.
Был жаркий день в середине лета, я стоял на углу площади Разгуляй, пил газированную воду и пассивно внимал разговору, вяло текущему мимо ушей.
– Ничего с ним поделать не могу, не слушается меня, паразит, и все. А что я могу ему сделать, если он здоровый как слон. Четырнадцать лет, а уже ботинки, поверишь ли, сорок третий размер и малы. И все радости: школу пропускает, курит, пьет, дома то ночует, то нет. Уже два привода имеет. На той неделе участковый приходил, вы, говорит, Анна, если не примете мер, сына упустите. Упустите, говорит, сына упустите. В колонию попадет, а там уже все. Там его и воровать научат, и грабить, и убивать, да еще, за отсутствием женской ласки, в пидарасы заделают. О господи, сколько я ночей проплакала, сколько слез пролила, сколько глотку криком драла, а все без толку. Был бы отец, дал бы ему ремня, а от моего крика что пользы…
– А где отец? – спросила слушательница.
– На фронте погиб, – вздохнула газировщица, скидывая мелочь в тарелку. – Полковник был. Как в первый день войны ушел, так и с концами.
Я пил воду, краем равнодушного уха улавливал разговор, особо в него не вникая. Но, имея автоматическую привычку манипулировать простыми числами, отнял от пятидесяти восьми четырнадцать, отнял еще девять месяцев и получилось, что ну никак не мог юный злостный курильщик, хулиган и будущий педераст родиться от полковника, пропавшего в начале войны.
Ставя на место стакан, я посмотрел на газировщицу и подумал, что все она врет. Не было у нее никакого полковника и вообще никакого такого человека, которого можно называть мужем, а был кто-нибудь торопливый из нижних чинов, который вступает со случайными дамами в связь, имея в виду, что, по солдатскому грубому выражению, «наше дело не рожать: сунул, вынул и – бежать».
Имея за плечами какой-никакой жизненный опыт, встречал я в процессе его приобретения разных людей, в том числе и таких вот горемык женского пола. Они никогда не достигли своей изначальной мечты о заботливом муже и благополучной семейной жизни, им перепали всего лишь случайные и торопливые радости соития где-нибудь в сенях, в подъезде, на сеновалах, в кустах, в кукурузе, а то и просто посреди поля на колючей стерне, иногда и с последствиями. В колхозах, строительных общежитиях, при армейских кухнях видел наш сочинитель стареющих и неутешенных как бы вдов, они, не испытав реального счастья, сочиняли себе легенды и жили выдуманным прошлым, как будто всамделишным. Все-все плели они одну и ту же историю безумной любви и радостного замужества, которое кончилось с началом войны: его забрали, и он погиб, причем обязательно в чине полковника. Ниже нельзя, не интересно, а выше фантазия не поднималась, да и кто же поверит?
Эти сказки рассказывали они, зазывая к себе голодных до женского тела солдат. Которые если и приносили с собой бутылку водки, то и спасибо – месячное солдатское жалованье все на эту одну бутылку и уходило. Так что иные, прижимистые, и вовсе на посещение соглашались при известном условии: поставишь пол-литра – приду.
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Войнович
Другие аудиокниги автора Владимир Николаевич Войнович
Шапка




 0
0