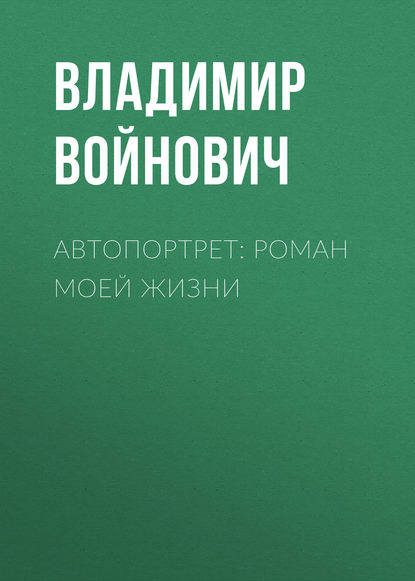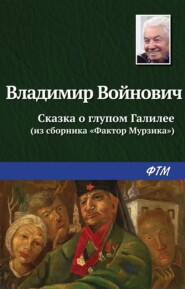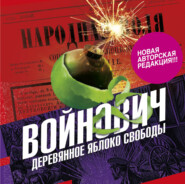По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Автопортрет: Роман моей жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я очень редко расспрашивал отца о его детстве, юности, молодости и войне, а сам он не любил о себе слишком распространяться и не внял моим настояниям написать мемуары. Мама говорила, что был он в молодости веселым, общительным, готовым ко всяким проказам, любил выпить, хорошо рисовал и пел русские народные песни. Уже тогда был склонен к разным чудачествам. В питании и одежде был скромен, и если ему в кои-то веки (точнее, во все веки всего один раз) покупался хороший костюм, то, прежде чем выйти на люди, катался в нем по полу: костюм не должен был выглядеть слишком новым.
Он был человеком всерьез принципиальным и от себя и своих близких требовал большего, чем от других. Какое-то время мать работала в его подчинении и то ли опоздала на работу, то ли что-то еще. Кому-нибудь другому это могло сойти с рук, но не ей. Отец написал немедленно приказ: уволить! И уволил.
Как многие люди его поколения, отец вступил в партию по убеждениям. Он верил в коммунизм, но в чем конкретно проявлялась эта вера, не знаю. Однажды, уже в конце жизни, он сказал, что сидел в лагере не зря. «Я, – сказал он, – состоял в преступной организации и за это должен был быть наказан». О том, что он сам делал в преступной организации, кроме работы в газете, я ничего не знаю, но думаю, что ничего особенного не делал. Один из его очень редких рассказов мне был о том, как однажды в каком-то из российских уездов, будучи членом продотряда, он не справился с поставленной перед ним задачей изъятия у крестьян «излишков продовольствия». Когда отец с пистолетом пришел к первой же избе проверять, что там спрятано под полом, хозяин избы встретил его на пороге с выставленными вперед вилами и сказал: «Не пущу!» В глазах его было такое отчаяние, что отец повернулся, сам уехал и увел продотряд. Потом ему попало «за проявление гнилого либерализма».
После возвращения из тюрьмы отец был совсем не таким, каким выглядел по описаниям матери. Он был невеселым, необщительным, не выпивал, не заводил и не имел друзей. При своей исключительной честности и щепетильности был очень скрытен (вот уж чего я от него совершенно не унаследовал). Посторонним о себе не рассказывал, да и перед близкими душу не выворачивал. Прошлого поминать не любил, а тот факт, что он сидел, вообще держался в тайне от посторонних и от меня тем более, хотя в эту тайну я начал проникать еще в тот майский день сорок первого года, когда отец возник передо мной в образе бродяги и оборванца. Потом я о чем-то сам догадался, кое-что выпытал у бабушки Евгении Петровны и годам примерно к четырнадцати в тайну эту был полностью посвящен.
Но как это обычно бывает: то, что скрывают родители, ребенок тоже держит при себе. Родители мне ничего не говорили, и я делал вид, что ничего не знаю, вплоть до моего возвращения из армии, когда мне было уже двадцать три года. Тогда был приготовлен особый ужин, во время которого сначала затронута, а потом развита соответствующая тема, что не все (нет, увы, не все) в нашей стране устроено так хорошо, как изображается в газетах, и столь осторожная преамбула была выстроена лишь для того, чтобы подойти к фразе: «Знаешь, Вова, мы с мамой в свое время не могли тебе этого сказать, но теперь ты можешь сам разобраться…»
Так, наверное, в прошлом веке добропорядочные родители, приготовляя к замужеству свою созревшую дочь, смущенно открывали ей, откуда берутся дети. И бывали смущены еще больше, узнав, что дочь не столь наивна, как ожидалось, и сама может их кое в чем просветить.
А все же кое-что родителям удалось скрыть от меня до конца жизни. Например, о дедушкиных мельницах я узнал только в 1994 году.
Первый и единственный
У меня в памяти смутно брезжат ночные отца с матерью разговоры шепотом, смысла которых я, может быть, не понимал, но чувствовал, что дело неладно.
– Ну что, Вова, – сказал мне как-то утром отец бодрым голосом и с улыбкой, которая слабо гармонировала с общим напряжением лица, – ты любишь путешествовать?
Я не знал, что значит путешествовать, он мне объяснил. Путешествовать – это значит шествовать по пути или, точнее, ехать на чем-нибудь, например на поезде, очень долго и далеко. Я уже ездил однажды на поезде из Сталинабада в Ленинабад, а теперь мы поедем гораздо дальше. Поедем втроем. Он, я, и еще возьмем с собой бабушку. Бабушку, мамину маму, мы отвезем в Вологду к ее сыну и моему дяде Володе. А сами поедем к другой бабушке, папиной маме, на Украину.
– А мама поедет? – спросил я.
– Нет, мама пока останется здесь. Она ведь учится в институте. Она доучится и тоже приедет к нам в Запорожье. Запорожье – это очень большой город на Украине. Ты таких больших городов еще не видел. А бабушку ты видел, но, наверное, не помнишь.
Нет, я не помнил. И даже не знал, что у человека бывает по две бабушки и по два дедушки. Мне казалось, что бабушек и дедушек должно быть, как пап и мам, только по одному. А больше даже и не нужно. Теперь же получался какой-то странный, но интересный обмен. Одну бабушку мы сдадим, а другую получим. Отец говорит, что эту другую бабушку я видел, когда мне было десять месяцев. А теперь мне восемь лет с лишним. Я большой мальчик, я почти окончил первый класс. Еще несколько дней, и мне дадут справку, что я его окончил. И мне почему-то это важно. Мне очень хочется иметь эту справку. Но мне ее не дадут. Потому что мы (это я, конечно, узнал потом) уезжаем, стараясь привлекать к себе поменьше внимания. Так что справку за первый класс я так и не получил. А жаль. Потому что этот класс был первым и единственным в нормальной школе, где я учился от начала и почти до самого конца.
Вторая семья
Во времена моего детства передвижение по железной дороге было большим событием для каждого, кто решался пуститься в путь. Отъезжающие и провожающие прощались долго и обстоятельно, произносили напутственные слова, потом замолкали, не зная, что бы еще сказать самого важного (ничего, кроме общих банальностей, на ум не приходило), и ожидание отправления становилось томительным. Но наконец дежурный в красной фуражке ударял в колокол, паровоз отзывался нетерпеливым гудком и испускал с шипеньем пары, поезд с лязгом расправлял суставы и начинал двигаться. Отъезжающие высовывались в окна, а провожающие прикладывали к глазам платочки и затем бежали, бежали вдоль отходящего поезда, спотыкаясь, натыкаясь на фонарные столбы и нелепо взмахивая руками.
А потом – дни и ночи пути, сопряженного с известными трудностями и приключениями, с выскакиванием на станциях за снедью, с очередями у кранов с холодной водой и с кипятком, с вечным страхом отстать от поезда.
Путешествие наше в мае 1941 года было долгим. Сначала пересекли всю страну снизу вверх и из лета поспели к ранней весне. Потом спустились вниз и вернулись опять в лето.
Вот из памяти извлеклась картинка: серое здание вокзала и надпись крупными косыми буквами «Запорiжжя», перрон, газетный киоск, будка с незнакомыми словами «Взуття та панчохи», тележка с газированной водой, милиционер в белом кителе, с шашкой на боку и свистком на шее, и семейство, застывшее, как на старинном дагерротипе: мужчина и женщина, оба в белом и оба в соломенных шляпах, старушка в темном платье в белый горошек и два крупных подростка в майках, в холщовых штанах и в парусиновых тапочках. Как только наш вагон поравнялся с картинкой, она вдруг ожила, превратившись из фотографии в немое кино, и эти дядя, тетя, старушка и подростки побежали рядом с вагоном, взмахивая руками и улыбаясь.
А потом объятия, поцелуи взрослых и ахи:
– Ах, какой большой мальчик? Ах, неужели уже восемь лет? В сентябре будет девять? И уже кончил первый класс? Ах, какой молодец!
Подростки и дядя в шляпе подхватили наши узлы, и мы все пошли к выходу с перрона. Мы – это мы с отцом, бабушка Евгения Петровна, сестра отца тетя Аня, ее муж дядя Костя Шкляревский и их дети Сева и Витя, пятнадцати и тринадцати лет. А потом красно-желтый трамвай, весело позванивая на поворотах и рассыпая искры, вез нас через весь город, увешанный афишами предстоящих гастролей Владимира Дурова и его зверей. Я не знал, кто такой Дуров, и думал, что это, наверное, какой-то дурной мальчик, который или нехорошо себя вел, или плохо учился, за что его назвали Дуровым и будут показывать народу вместе со зверями.
Запорожье оказалось очень большим индустриальным городом. ДнепроГЭС, Запорожсталь, Днепроспецсталь и много всяких других заводов, включая «Коммунар», производивший в те времена комбайны «Коммунар», а потом переключившийся на автомобиль «Запорожец». Еще был завод номер 29, про который все знали, что он секретный, что никому нельзя знать, что на нем именно производится, и все знали, что на нем производятся именно авиационные двигатели.
Почти все запорожцы, как я позже заметил, были местными патриотами, гордились тем, что их город такой необычный. Он делился на несколько основных частей: старая часть, новая часть, село Вознесеновка, Павлокичкас и остров Хортица, где была когда-то Запорожская Сечь. А на правом берегу есть еще село Верхняя Хортица, там в описываемое время жили немцы из бывших колонистов.
До революции Запорожье называлось Александровском в честь Александра Первого. Александра Второго, проезжавшего здесь на поезде по дороге из Крыма, народоволец Желябов хотел взорвать, но не сумел. Запорожцы гордились всеми составными этой истории: и что царь здесь проезжал, и что именно здесь его хотели убить, и что именно здесь его не убили.
Еще гордились тем, что все или многое здесь было самое-самое. Самая крупная в мире гидроэлектростанция, самый крупный в Европе кинотеатр и самый старый в мире, в Европе или на Украине (не помню точно, где именно) дуб, который назывался дубом Махно.
Название пошло от того, что будто бы батько в тревожные минуты залезал на этот дуб и сквозь бинокль вглядывался, не подбирается ли к нему исподтишка коварный враг. Все это, конечно, чистая чепуха, потому что дуб этот и поныне стоит среди других дубов в дубовой роще у Днепра. Не знаю, как батько, но я на этот дуб залезал и могу сказать определенно, что с него ни в бинокль, ни без бинокля ничего нельзя увидеть, кроме других таких же дубов. Тем не менее я во все рассказанные мне легенды охотно поверил и сам стал гордиться славной историей города, его блистательным настоящим и великолепным будущим.
Часть города состояла из пятнадцати рабочих поселков. Самый главный из них, шестой поселок, где жили Шкляревские, примыкал к плотине ДнепроГЭС, был самым современным из всех и имел второе название: соцгород.
Здесь было много такого, чего я никогда раньше не видел. Семья Шкляревских занимала отдельную квартиру с электрическим освещением, паровым отоплением и горячей водой. Меня больше всего поразили ванная и другое чудо индустриальной эпохи – ватерклозет. До Запорожья я не представлял себе, что такие удобства возможны. Еще одним чудом был для меня тети-Анин радиоприемник (кажется, он назывался «Си-235») со светящейся шкалой. По приемнику можно было слушать не только советские, но и иностранные передачи.
В Запорожье было интересно и то, что здесь не только дети, но и взрослые чуть ли не каждый день играли в войну. Чаще всего по вечерам. Чуть стемнеет, как начинают завывать со всех сторон, словно волки, сирены, железный голос диктора разносится по всему городу и, наталкиваясь на стены домов, рассыпается на уходящее в невнятицу эхо:
– Граждане, воздушная тревога… евога… вога… ога…
Граждане тут же, опасаясь штрафов, торопливо выключали в квартирах свет. Уличные фонари тоже гасли, после чего город теоретически должен был бы погрузиться во мрак. Но практически этого не случалось. Потому что как раз во время затемнения где-то далеко за восьмым поселком пышно разгоралось освещавшее полгорода зловещее багровое зарево – это на Запорожстали выливали расплавленный шлак.
Во время тревоги мы, не зная, сколько она продлится, хватали заранее приготовленные узлы с одеялами и подушками и бежали прятаться в железобетонные бомбоубежища, оборудованные в подвалах некоторых домов. Это тоже было обязательно. Милиция могла проверить и оставшихся дома опять-таки оштрафовать.
Взрослых эти тревоги раздражали, а мне нравились. В бомбоубежищах сходилось много народу, взрослого и невзрослого, здесь велись самые разные и порой очень интересные разговоры.
В Запорожье было еще и то хорошо, что у меня здесь сразу появились два брата. Пусть двоюродных, но зато старших. Раньше, когда меня обижали, я жалел, что у меня нет старшего брата. В крайнем случае согласен был даже на младшего. И просил маму, чтобы она родила мне братика. Мама этого не сделала. Но теперь было все в порядке. Сева, конечно, был слишком старше, он мне внимания много не уделял, зато с Витей мы подружились, и нападать на меня он не позволял никому.
А желающие напасть уже тогда возникали на моем пути, и нередко. Одного такого субъекта моего же примерно возраста встретил я в середине дня по дороге от одного подъезда к другому. Он играл сам с собой в игру, которая у нас, в Средней Азии, называлась лянга, а здесь – маялка. Клок козлиной или заячьей шкурки с пришитым к ней грузиком из свинца надо подкидывать одной ногой или двумя поочередно, не давая упасть на землю. Именно этим делом, и с большой ловкостью, занимался мой сверстник. Он отбивал эту маялку и громко считал:
– Сто четыре, сто пять, сто шесть…
Тут как раз появился я. Он на миг отвлекся и на сто седьмом ударе маялку потерял. Но не огорчился. Положил маялку в карман и загородил мне дорогу.
– Здорово! – сказал он и протянул мне свою грязную руку.
– Здорово! – сказал я и протянул ему свою, тоже не очень чистую.
Я еще не дотянулся, а он свою руку быстро убрал и, тыча пальцем в небо, сказал: «Там птички летают». Я посмотрел туда, куда он указывал, но птичек никаких не увидел.
– Здорово! – сказал он опять и опять протянул мне руку.
– Здорово! – отозвался я удивленно и повторил то же движение… Он свою руку тут же убрал и стал большим пальцем тыкать куда-то за ухо.
– Там, – сказал он, – собачки бегают.
– Где? – спросил я, никаких собачек не обнаружив.
– Здорово!
– Здорово! – попался я третий раз на тот же крючок.
– Вот глупый человек, – сказал он, убирая руку. – Куда ж ты руку тянешь? Ты ее мыл? А ты знаешь, как козлы здороваются?
– Нет, – сказал я, – не знаю.
– А вот так! – Он неожиданно нагнулся и резко боднул меня головой в живот. Я упал навзничь, ударился затылком об асфальт и заорал. В это время из подъезда вышел Витя. Он схватил моего обидчика за шкирку и предложил мне сделать с ним то, что тот сделал со мной. Я нагнулся и хотел тоже ударить его головой в живот, но тут со мной что-то случилось: моя голова не захотела мне подчиняться. Я пробовал его ударить рукой, пнуть ногой и делал над собой некие волевые усилия, но тело меня не слушалось. Это привело меня в такое замешательство, что я заплакал и засмеялся одновременно. Мне казалось, что смеюсь я потому, что вот со мной старший брат, который всегда готов меня защитить и с которым я могу отомстить любому, кто посмеет меня обидеть. А плакал я оттого, что мой организм не позволял мне осуществить свою волю. Потом в детстве моем много раз случалось, что меня били, а я не мог дать сдачи, потому что мои руки не подчинялись моим желаниям. И не только руки.
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Войнович
Другие аудиокниги автора Владимир Николаевич Войнович
Шапка




 0
0