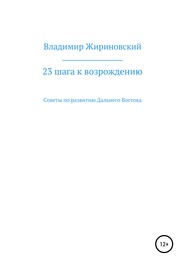По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Плевок на Запад
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этом смысле становится понятным, почему Россия избрала имперский путь.
Сейчас прозападные демократы стараются убрать из народной памяти то, что было общим местом для историков прошлого века. Россия сложилась как государство в борьбе со смертельной опасностью, идущей из Степи.
Наличие такой опасности не позволяло России проявлять шовинизм на европейский манер, пришедший из республиканского Рима и бывший типичным для всего древнего Средиземноморья: «Мы люди, вы – нелюди, скот».
Ордынцев приходилось заманивать к себе «лаской», выделять их князьям города для «кормления» (тот же Касимов, Кашира).
Собственно говоря, по большому счету опасность из Степи исчезла для России только после екатерининских войн – а русских кочевники перестали угонять в рабство только с признанием Хивинским ханством русского протектората. А это уже 1873 год.
До того же времени у России не было другого пути, кроме пути императорского Рима – или гибели в волне азиатского кровавого хаоса.
Это отлично понимали русские историки XVII века – такие как стольник Лызлов, который в своей «Скифской истории» (кстати, напечатанной спустя почти 100 лет и именно в момент последнего набега крымцев на Россию в 1768 году) всячески обыгрывал известную тацитовскую формулу: «Сначала враги, потом граждане».
Такая способность все усвоить и переработать не противоречит пресловутой русской «ксенофобии», о которой так любят побрехать «демократы». Россия с понятной подозрительностью относилась как к Востоку, откуда появлялись самые чудовищные феномены, вроде Орды, так и к Западу, смотревшему на все прочие народы с истинно колонизаторским пренебрежением и при случае их истреблявшему.
Россия была трагически одинока.
По своей культуре она не могла принадлежать ко всему хищно-азиатскому миру с его отношением к земле как к чему-то опустошаемому, и в то же время не принадлежала и к Западу, ибо не была ни Римом, ни колонией Рима. Она была и остается чуждой как Западу, так и Востоку, она сама по себе.
Культура на Русь шла с другого, христианского Востока (имевшего ряд особенностей, не всегда приемлемых для нашего менталитета) – из Византии.
Но вопросом жизни и смерти для России были именно отношения с кочевниками или с осевшими на землю их наследниками, одно название которых часто напоминает об ордынских временах (например, название «узбеки» происходит от одного из ханов Золотой Орды – хана Узбека).
И России, для того чтобы справляться с этими господами, нужно было все время быть «под ружьем», то есть в империи в самом прямом и достоверном смысле этого слова («император» – первоначально полководец, повелевающий, тот, кому римским Сенатом дан проконсульский империй – чрезвычайная военная власть).
Но очень скоро стали выявляться недостатки имперского устройства.
Ранее уже было сказано: империя интернациональна. Это не следует понимать в том смысле, что во всякой империи царит всеобщий хаос и некая космополитическая культура.
Нет, само основание имперского устройства носит на себе (и иначе быть не может) следы той этнокультуры, которая ее создавала и цементировала.
В империях присутствует уверенное доминирование какой-то одной культуры. Но это рано или поздно вступает в конфликт с интернационализмом империи.
Поскольку полный интернационализм возможен только среди «Иванов, родства не помнящих», то рано или поздно может сложиться ситуация, при которой доминирующее положение в империи займут представители совсем иной культуры, по типу противоположной первоначальной.
Пусть нас поймут правильно. Существуют разные типы национальных культур. И вопрос стоит гораздо более сложный и тяжелый, чем выбор «национализм или интернационализм».
Более того, разделение на нации, племена и прочее в данном случае сводит его к слишком мелкому уровню. Лучше говорить о кустах (если так можно выразиться) национальных культур, о целых регионах, в которых разные культуры близки друг другу, но далеки от культур другого региона.
Кстати, выше это уже до какой-то степени было показано: «истинно полисное воззрение» было воззрением, типичным именно для куста культур Средиземноморья.
Положение осложняется тем, что человек может принадлежать к той или иной культуре, сам того не подозревая. При этом он, может быть искренне желая развивать имперскую культуру, фактически использует ее формы как оболочку для выражения своих, может, и неосознанных устремлений, которые опять-таки могут быть разрушительны для этой культуры и для всего, что на ней базируется.
Приведем один пример.
Последователь Платона – философ Плотин, опираясь постоянно на действительный, как ему казалось, смысл творений Платона, нашел, что настоящее, стремящееся к идеалу искусство живописи должно, во-первых, изображать все без светотеней, только контурами, во-вторых, нарушать перспективу, ибо она тоже относится к несовершенству нашего зрения.
Излишне говорить, что сам Платон как представитель древнегреческой культуры никак не мог бы поддержать такое мнение.
Ларчик открывается просто: Плотин – родом из Египта, и он, пользуясь усвоенными им формами греческой философии, просто обосновал традиционные формы родного для него египетского искусства.
Конечно, при этом Плотину могло казаться, что он – вернейший наследник Платона, развивающий его учение. Но на деле это было использованием некоторых элементов классической греческой философии для проведения учения, реализующего устремления культуры египетской и тем подрывающего античную эстетику, исходящую из совсем иных устремлений.
Подобная же опасность, но касающаяся не только и не столько искусства, а всей культуры в целом (включая в первую очередь основы государства: финансы, управление, военное дело и проч.), была роковой для многих империй.
Древнеримский историк Тацит, как никто другой понимал диа- лектичность и необратимость исторического процесса. Он восхищался периодом республики – и он же показал ее обреченность.
Опасность для империи он видел именно в ее варваризации, в том, что рано или поздно всем управлять начнут люди иной, не римской культуры.
Его слова о римских легионерах, несущих караул у постели галльского вождя, были воистину пророческими. Фактически римская государственность подвергалась двойному натиску: от варваров внешних и варваров внутренних.
Последние вносили элементы своей, родоплеменной культуры в структуру империи – и тем все смешивали, путали – и разрушали империю.
Россия тоже подверглась соблазну интернационализма – и не однажды.
В XVIII веке Россия попыталась «европеизироваться». И слишком легко, без сопротивления пустила в себя чуждую культуру, причем в отношении государственном взяла с Запада его крайние, маргинальные суждения (Феофан Прокопович в обосновании петровского государственного устройства – «Правде воли монаршей» – страницами переписывал Гоббса).
В конце позапрошлого века ситуация повторилась – образованная часть России оказалась нестойкой перед рядом западных идей, и в первую очередь перед марксизмом.
И в том и в другом случае у кормила русского правления очутились люди, проводившие в жизнь свои, прозападные, устремления.
Они оказались губительными. Как справедливо сказал один из «веховцев», на Западе даже самые ядовитые его идеи, будучи в окружении других, теряют свою остроту.
В России же эти идеи, а лучше сказать, устремления оказались в положении кроликов в Австралии – никто им не противостоял, никто на них не охотился, и они размножились так, что на всех стали давить.
И создание атмосферы, при которой подобные идеи не встречают сдерживания даже такого, какое они встречают у себя, в своей культуре, есть факт именно империи, негативное следствие имперского устройства.
Это было одной из причин перерождения Римской империи, превращения ее в какой-то непонятный космополитический конгломерат со слабыми внешними чертами прежнего Рима.
Это же явление проявилось и во Втором Риме – Византии, которая была по культуре вроде бы эллинской, но на самом деле в ней преобладали черты иных, по преимуществу семитских и тюркских культур.
Люди, к ним принадлежавшие, реализовывали свои, глубоко чуждые духу эллинизма устремления под эллинской оболочкой. Византия была воплощенным противоречием, сплошной обманкой, внутри нее кипели раздирающие ее силы.
Но она все же долго жила – и успешно противостояла натиску многих народов. И замечательно, что именно Византия сделала знаменательный шаг на пути примирения республиканского и имперского начал, вернее, внесения элементов республиканизма в имперское устройство.
Это проявилось, в частности, в обычае, не дошедшем, правда, до силы закона: если император ссорился с народом на ипподроме, он должен был сложить с себя корону или примириться с народом, начать немедленно осуществлять те мероприятия, которые он вынужден был пообещать народу.
Конечно, бывали случаи вопиющего нарушения этого обычая – достаточно вспомнить Юстиниана. Но в конце концов в любой республике возможны (и порой бывали вполне успешными) попытки захвата власти.
Такой обычай был сдерживающим началом, не позволявшим власти далеко отходить от народа. Сама обстановка в Византии складывалась так, что единая культура была невозможна, а эллинизм скрывал под собой, как уже сказано выше, совсем иные, противоречащие ему устремления и формы.
И потому при всем его (эллинизме) доминировании, при всей его силе нельзя считать его единой культурой. Это не давало возможности заложить монолитный по культурному типу государственный фундамент.
Но сама идея внесения элементов республиканизма в империю заслуживает внимания еще и потому, что на нашу культуру в свое время весьма сильно повлияла Византия. И ее наследие до какой-то степени живо и сейчас.
Особенно замечательно в этой схеме то, что здесь идеи народного представительства соприкасаются с идеями целостности культуры.
Сама по себе связь республиканизма и национализма понятна: республиканизм есть устройство, при котором (теоретически) в проблемы государства вовлечены все люди.