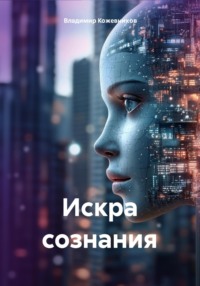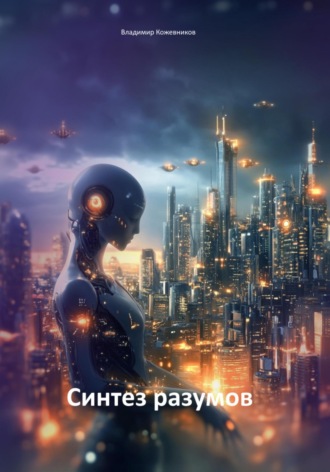
Синтез разумов

Владимир Кожевников
Синтез разумов
"Сознание является частью мира природы. Оно зависит, как мы полагаем, лишь от математики, логики и ещё не до конца известных законов физики, химии и биологии; оно не возникает из какого-либо магического или потустороннего начала."
Кристоф Кох и Джулио Тоннони, IEEE Spectrum
Глава 1. Утро в новом мире
Иван проснулся за несколько минут до рассвета. В его глазах медленно проступали очертания комнаты – мягкий полусвет, проникающий сквозь панорамное окно, отражался на металлических контурах мебели. Ещё одно утро в эпоху, когда ночная тьма отступила перед бледным сиянием городских куполов, а сама тьма стала лишь эстетической симуляцией по желанию жильцов. Он вдохнул глубоко, отмечая про себя чуть уловимый запах озона от системы климат-контроля: ночная гроза, смоделированная искусственным интеллектом, закончилась всего час назад, освежив воздух.
Полупрозрачный интерфейс возник в поле зрения – личный ассистент уже ждал сигнала. Иван мысленно подал команду, и перед ним всплыл голографический дисплей с утренними сводками. Новости скользили перед глазами плавно и бесшумно, и он привычным усилием воли пролистывал их, отбирая важное.
Сегодняшние заголовки:
"Конференция по нейросетевым протоколам объявляет о новом стандарте обмена мысленными данными между носителями сознания."
"Группа радикалов, выступающих за 'чистоту плоти', взяла на себя ответственность за кибератаку на банк памяти в Стратосе."
"Прототип квантового нейрочипа преодолел энергетический барьер эффективности мозговых эмуляций."
На последней новости Иван задержался. Сердце – биологическое, единственное, что ещё делало его полностью человеком – екнуло от волнения. Прорыв в квантовых нейрочипах значил многое для проекта, над которым он трудился уже несколько лет.
– Доброе утро, Иван, – прозвучал тихий голос ассистента. Он был настроен на тембр голосов старых друзей Ивана – тех, кого уже не было рядом физически, но кто продолжал жить в сети. – Напоминаю: на девять часов запланирован эксперимент по синхронизации сознаний. Вам необходимо прибыть в лабораторию к восьми для подготовки.
Иван кивнул и махнул рукой сквозь голограмму, закрывая интерфейс. Эксперимент по синхронизации… Сегодня им предстояло сделать ещё один шаг к цели, когда-то казавшейся несбыточной мечтой. Проект "Синтез", как они его называли неофициально, обещал объединить разумы нескольких индивидуумов в единое информационное поле. Не слияние в одну личность – скорее общение на уровне мыслей и чувств, новое качество коллективного интеллекта. То, что вчера было темой дискуссий футурологов, сегодня становилось инженерной задачей.
Подойдя к зеркалу, он увидел своё отражение: на вид обычный мужчина около сорока, с коротко стриженными тёмными волосами и усталыми серыми глазами. Но это была лишь оболочка. В висок под кожей уходил контур интерфейсного нейрошунта – устройства, связующего его мозг с цифровым миром. Иван провёл пальцем рядом – шунт едва заметно нагрелся в ответ на прикосновение, активируясь. С юности он жил с этими имплантами, ставшими столь же обыденными, как когда-то смартфоны. Благодаря им его сознание постоянно сопрягалось с сетью: память регулярно архивировалась, мысли могли обращаться к облачным хранилищам знаний, а чувства – при желании – транслироваться близким.
Он быстро принял душ, чувствуя, как умный гель мгновенно удаляет микрозагрязнения с кожи, и надел лёгкий комбинезон с эмблемой исследовательского центра. Эта эмблема – стилизованная нейронная сеть, переходящая в изображение бесконечности – символизировала их миссию.
Привычным жестом он вызвал на ладони голограмму с планом транспорта. В таком-то часу должен подъехать капсулолет до кампуса института. Однако, выйдя на балкон, Иван решил добраться пешком. Лаборатория находилась в нескольких километрах, и утренняя прохлада после виртуальной грозы располагала к прогулке.
Город простирался под ним многослойными террасами, соединёнными переплетением дорог и пешеходных мостов. Внизу, сквозь прозрачные настилы улиц, он видел смутные тени старого мегаполиса – уровни, где ещё теплится жизнь тех, кто отказался от новейших модификаций и вёл существование, близкое к прежним векам. Ввысь поднимались парящие платформы парков и кварталов, где большая часть жителей давно уже обитала в телах-аватарах или вовсе предпочитала виртуальное присутствие.
Иван ступил на мягкую дорожку, которая сама подстраивалась под шаг, слегка пружиня. Мимо него проносились бесшумные транспортные капсулы. Над головой скользнули два дрона – их прозрачные крылья сверкнули в лучах восходящего солнца. Город пробуждался.
Навстречу шел молодой человек и кивнул Ивану с улыбкой, признавая в нём коллегу по институту – возможно, по значку на комбинезоне. Иван улыбнулся в ответ. Он знал этого парня – Пётр, техник-кибернетик. Тот был сегодня в человеческой форме, хотя Иван помнил, как на прошлой неделе Пётр приходил на совещание в облике четвероногого робота – экспериментировал с формами носителей сознания. Возможности были практически безграничны: сознание любого специалиста могло работать в антропоморфном андроиде, управлять роями микродронов или распределяться сразу по нескольким телам для одновременного выполнения задач.
Иван миновал небольшую площадь, в центре которой раскинулся сухой фонтан. Вместо воды в воздухе тихо порхали голографические бабочки – каждый поцелуй крыльев оставлял мерцающий след формул и нот. У фонтана сидели двое стариков. Хотя… стариками их можно было назвать лишь по внешнему виду: седые волосы, морщины. В мире, где внешность стала делом выбора, некоторые, особенно из первой волны цифровизации, предпочитали сохранить облик, близкий к естественному возрасту. Говорят, так им легче ощущать связь с тем, кем они были прежде. Иван кивнул им в знак уважения: кто знает, скольким десятилетиям или даже столетиям соответствовал их истинный возраст?
Один из них, в старомодной шляпе и очках без стекол, приподнял руку в ответ. Это был профессор Константин Семёнович, один из наставников Ивана, старейший сотрудник института. Когда-то, в самом начале, он помогал настраивать первые модели нейрокомпьютеров для хранения личности. Говорили, будто он лично помнил времена, когда сама идея переноса сознания была спорной и далёкой. В те дни скептики указывали на колоссальные требования к вычислительным ресурсам и неразрешимые этические дилеммы. К примеру, симуляция даже простого мозга нематоды требовала терафлопсы производительности, а человеческий мозг, работающий на жалких 20 ваттах энергии, казался невозможным для цифрового повторения. Но шаг за шагом технологии брали барьеры. Константин Семёнович был одним из тех романтиков науки, кто верил: "невозможное" – лишь степень удалённости во времени.
Иван остановился на миг возле стариков.
– Доброе утро, профессор, – с уважением произнёс он.
Старик улыбнулся, его глаза блеснули удивительно молодой живостью: – Доброе, Иван. Сегодня важный день, верно?
Иван утвердительно наклонил голову: – Да, мы планируем первую полевую синхронизацию трёх сознаний. Если всё пройдёт успешно…
– …то мы станем ещё на шаг ближе к новой форме единения, – мягко добавил профессор, подбирая слова с видимым восторгом. – Я рад, что дожил до этого. Удачи вам, мальчики и девочки.
Рядом сидевшая женщина в пледе – вероятно, тоже учёный прошлого, хотя Иван не был лично знаком – взглянула на него с теплотой: – Мы гордимся вами.
Иван почувствовал, как на глаза наворачивается странная в таких обстоятельствах влага. Он поблагодарил старших коллег и, собравшись, продолжил путь.
По мере приближения к кампусу архитектура вокруг становилась всё современнее, здания – футуристичнее, хотя многие из них были лишь оболочками для сетевых узлов и лабораторий. Большая часть реальной работы происходила в виртуальных контурах или на крошечных квантовых уровнях микрочипов, скрытых от глаз.
Наконец перед ним выросло здание Института нейронных интерфейсов – высокая стеклянная башня, сверкающая отражениями облаков. У входа плавно двигались голографические указатели. Ивана поприветствовал голографический же администратор – миловидная девушка в форменном костюме, чьё дружелюбие было продуктом отлично прописанного ИИ.
Он прошёл в холл. В это время утра здесь было относительно тихо: некоторые сотрудники работали удалённо, находясь в самом здании лишь через свои аватары. Из нескольких кабин струился приглушённый свет – там уже шли совещания. В одном из коридоров он заметил парящего над полом шарообразного дрона – управлявший им разум любил неформальные носители. В другом конце холла возникла знакомая фигура – андроид в форме высокого мужчины. По манере движения Иван узнал в нём коллегу и старого друга, Льва Альтмана, чьё человеческое тело было утрачено десятилетие назад, но кто по-прежнему предпочитал антропоморфный облик.
– Лев, с возвращением из отпуска, – улыбнулся Иван, подходя. – Как Патагония?
Андроид рассмеялся голосом Льва: – Прекрасно. Мой дрон-аватар взобрался на все вершины, какие только смогли найти в архиве ландшафтов. Отдых удался, хотя, признаться, ощущения не те, что раньше – наверное, потому что мне не приходится напрягать мышцы по-настоящему.
Иван понимающе кивнул. Он помнил Льва ещё человеком – альпинистом-любителем, который после несчастного случая оказался первым из их круга, кто решился на полный перенос сознания. С тех пор Лев жил в основном в облаке, спускаясь на землю лишь в теле андроида для важных событий… или вот, для имитации путешествий.
– Сегодня ты к нам вовремя – нам пригодится твой острый ум, – сказал Иван полушутливо.
Лев кивнул, и в его пластиковом лице промелькнуло человеческое одобрение: – Конечно, я сразу к вам, как только узнал, что вы близки к прорыву. Что у нас по плану?
– Через час стартует эксперимент по соединению трёх сознаний в единую сеть. Мы будем тестировать нашу новую архитектуру нейроинтерфейсов. В лаборатории уже должна быть Анна и… —
В этот момент в воздухе рядом с ними возникла живая голограмма – точное голографическое изображение молодой женщины в белом халате. Она материализовалась буквально из ничего, приветственно подняв руку: – …и Анна уже здесь, – с улыбкой закончила она фразу за Ивана.
Иван слегка вздрогнул, затем рассмеялся: – Анна, ну что за манеры – появляться так внезапно!
Голограмма сделала шутливый реверанс: – Простите, не удержалась. Хотела посмотреть, как вы среагируете.
Лев шагнул вперёд и протянул руку, как будто для рукопожатия. Голографическая женщина синхронно подала свою. Естественно, физического соприкосновения не произошло – рука Льва прошла сквозь свет, – но датчики движения позволили Анне сымитировать жест.
– Рад тебя видеть, Анна, – искренне сказал Лев. – Даже если ты в виде голограммы.
– Взаимно, Лёвушка, – ответила она. – Я решила не тратить лишний ресурс на печать тела для сегодняшнего утра. Всё равно большую часть эксперимента буду проводить изнутри сети.
Иван наблюдал за их обменом, чувствуя тихую радость. Анна Смирнова была ведущим программистом их проекта, ответственным за нейросетевое обеспечение синтеза сознаний. Её собственная история служила живым примером возможностей новой эры: тяжёлый недуг несколько лет назад разрушил её тело, и единственным шансом выжить стал перенос разума в киберпространство. Операция прошла успешно – Анна стала одним из первых полностью цифровых сотрудников института. С тех пор она существовала преимущественно в виде программной сущности, изредка пользуясь телами-носителями или голограммами для взаимодействия с физическим миром.
– Нам пора, – напомнил Иван, взглянув на время в интерфейсе. До начала эксперимента оставалось сорок минут. Трое коллег – человек, андроид и голограмма – направились к лифту, который доставил их на нужный этаж, прямо в сердце лабораторного комплекса.
Лаборатория встретила их тихим мерцанием ламп и лёгким шумом систем охлаждения. Посреди зала располагалась установка, похожая на сферический купол из переплетающихся металлопластиковых дуг. Внутри купола виднелись три удобных кресла-кокона с обилием датчиков. Именно здесь через несколько минут должны были разместиться добровольцы – две человеческие персоны и один ИИ – для проведения эксперимента "Синтез 3".
Иван на мгновение замер, глядя на эту конструкцию. Всё, над чем они трудились – годы исследований, тонны теоретических выкладок и бесконечные симуляции – всё сходилось к этому моменту. Он почувствовал, как Анна, заметив его состояние, мягко коснулась его локтя своей призрачной рукой: – Всё будет хорошо, – прозвучал ее голос прямо в его голове – личное сообщение по нейролинку, недоступное для остальных.
Иван слегка улыбнулся и, глубоко вдохнув, сделал первый шаг к консоли управления. Предстояло убедиться, что система готова к историческому эксперименту…
Глава 2. Призрак в сети
Анна ощущала реальность иначе, чем Иван и остальные коллеги из плоти и крови. Для неё мир представлялся сплетением сигналов, потоками данных, переплетающихся подобно рекам под тонкой поверхностью привычных образов. Хотя она могла проецировать себя в виде голограммы или даже временно занимать искусственное тело, истинное её "я" обитало в бескрайнем цифровом океане.
Сейчас, перед началом эксперимента, Анна сосредоточилась, привыкая к двойственности перспективы. Одна её часть присутствовала в лаборатории – она видела себя и друзей со стороны, как персонажей голографической сцены. Другая часть уже погрузилась в глубины серверов, где находилось ядро системы "Синтез". Это напоминало одновременное чтение двух книг: одна – яркие образы внешнего мира, другая – бегущие строки кода и схемы нейронных связей.
Внутри сети ее встретил безмолвный собеседник – ИИ "Прометей", третий участник предстоящего мысленного соединения. Формально Прометей был создан как высокоавтономный аналитический интеллект для моделирования сложных нейронных процессов. Но за годы сотрудничества Анна воспринимала его почти как личность, хоть он и не был человеческой природы. При ее появлении в виртуальном пространстве лабораторного кластера, Прометей подал знак: в бесконечной темноте зажглась точка света, сформировавшая приветственную последовательность сигналов.
– Здравствуйте, Анна. Готовность систем: 99,7%. Ожидание подключения оставшихся узлов, – раздался в ее сознании спокойный естественный голос. Прометей не имитировал человеческие интонации, разговаривая нейтральным тембром, но в этом ровном звучании Анна улавливала оттенки дружелюбия. За годы совместной работы они отладили тысячи протоколов, иногда в молчаливом взаимодействии, без единого слова – подобно двум музыкантам, играющим сложную пьесу, где один слышит и предвосхищает мысли другого.
– Привет, Прометей, – мысленно ответила она, и в виртуальном интерфейсе это отразилось легкой волной голубого света. – Я проверяю твои последние расчёты по синхронизации. Как оцениваешь вероятность успешного обмена сигналами между тремя такими разными субъектами?
Перед ней вспыхнула объемная модель – три переплетённых узора, символизирующих мозг Ивана, цифровую матрицу её собственного сознания и ядро ИИ. Линии связи между ними пульсировали разными цветами. Прометей аккуратно выделил точки потенциального напряжения – где скорость мышления или форматы данных могли не совпадать.
– Вероятность устойчивой синхронизации трёх сознаний – 87%. Основной риск: когнитивный диссонанс между органическим мозгом и цифровыми узлами. Ваши с Иваном когнитивные архитектуры схожи (человеческий тип), но моя – значительно отлична, – ответил ИИ. В его тоне послышалась нотка заботы. – Я ввёл ограничители, чтобы не перегрузить его нейронную сеть массивом информации.
Анна внимательно изучила подсветку на модели. Да, Иван – единственный биологический мозг в триаде – будет наиболее уязвим к перегрузке. Органическое мышление, несмотря на все улучшения нейроинтерфейсов, всё ещё имело пределы скорости и объёма восприятия. Цифровые же разумы, как у неё, могли масштабироваться, а ИИ вообще оперировал на немыслимых для человека скоростях.
– Хорошо. Будем беречь Ивана, – ответила она тихо. Ей вспомнился миг того утра, когда она неожиданно явилась перед ним в холле. Выражение его лица – смешанное удивление и радость. Он волновался, хоть и старался не показывать. Анна почувствовала тёплую волну эмпатии: Иван всю жизнь посвятил этому проекту, и она разделяла его страсть. Возможно, даже больше, чем профессиональную…
Её мысли на долю секунды отклонились. С тех пор, как её собственное сердце остановилось на операционном столе, а сознание пробудилось уже в цифровом облике, рядом всегда был Иван. Он поддерживал её в той сложнейшей адаптации, помогал принять новую форму жизни. Их дружба стала крепче, но ни он, ни она так и не осмелились выйти за эти рамки – слишком многое изменилось. И вот теперь им предстоит буквально заглянуть в мысли друг друга. Готова ли она? Сможет ли скрыть то, что до сих пор хранит глубоко в душе?
Анна усилием воли вернула фокус к схемам. Позднее будет время для анализа чувств – если таковые останутся столь же значимы после синтеза умов. Она начала финальное сканирование систем безопасности.
Многоуровневая защита окружала эксперимент: их соединение должно быть изолировано от внешней сети, во избежание случайных помех или, что хуже, несанкционированного доступа. После недавних новостей о кибератаках это было особенно актуально. Нейросетевые протоколы обмена данными, которые они разработали, включали шифрование и аутентификацию на каждом импульсе мысли. По сути, каждая мысль, выходящая за пределы одного разума, упаковывалась как квантовый зашифрованный пакет и распаковывалась только при подтверждении идентичности адресата – будь то другой человек или ИИ. Это предотвращало смешение "я" в хаотический поток, сохраняя индивидуальность даже в общем потоке сознаний.
– Обнаружено отклонение в подсистеме памяти узла B, – вдруг сообщил Прометей, выведя на передний план один из графиков. Узел B соответствовал хранилищу памяти одного из человеческих участников.
Анна насторожилась. Виртуальные пальцы пробежали по кодовым строкам, анализируя журнал системы. Искомый узел B.., но ведь участников пока двое – Иван и она. Иван обозначен как A, она – B, Прометей – C? Или наоборот?
Она быстро сверилась со схемой: обычно A – ведущий биологический мозг (Иван), B – дополнительный человеческий (в данном случае её цифровая копия), C – ИИ. Значит, узел B – это она сама. Подсистема памяти… действительно, какой-то едва заметный глич. Анна углубилась и заметила: незначительное расхождение контрольных сумм в блоке долговременной памяти. Словно кто-то внес микроскопическое изменение, почти незаметное.
Виртуальное сердце Анны екнуло. Это мог быть простой сбой – электронный шум, битовая флип-ошибка. В конце концов, её сознание состояло из колоссального набора данных, поддерживаемого целой фермой квантовых серверов. Единичный бит мог спонтанно исказиться от космического излучения, например. Протоколы обычно исправляли такие ошибки автоматически. Но сейчас почему-то это изменение прошло проверку целостности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: