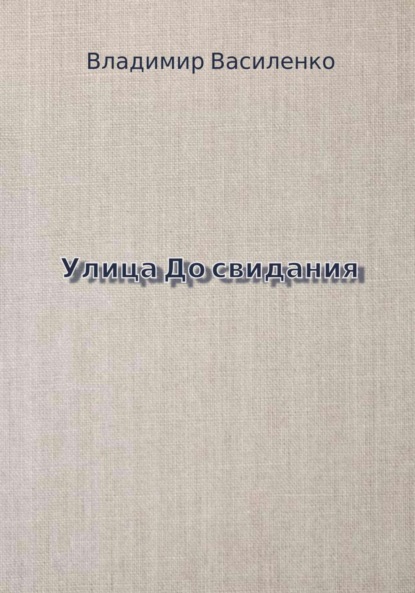По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Улица До свидания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Евсевич чавкал…
– И сопел.
– Причмокивал.
– Прихрюкивал.
– Поикивал.
– Повизгивал.
– Так, мои хорошие, большое вам спасибо, но завтра, как-никак…
– Вера Ивановна… Ну пусть Маккартни еще споет… Ну Вера Ивановна… Ну, еще чуть-чуть…
– Нет, нет, нет! Я вас всех была рада видеть, все молодцы, а теперь – по домам, по домам, по домам.
Засыпая, в пред-сновиденье я снова оказываюсь в квартире, в какой провел сегодняшний вечер, вместе с Марго мы сидим и слушаем, и смотрим, и хозяйка чувствует себя так комфортно, как еще никогда ни с кем…
– Придумывают же люди неудачные названия, – говорит она, перебивая меня, – А «красота»?.. Всего лишь чье-то удобство. Она не в объекте – в субъекте.
– Ну, скажи мне, – обнимая Марго, продолжаю я домогаться. – Скажи. Девочка моя.
– Девочка моя, – говорит она, глядя на хозяйку. – Пусть она будет твоей мамой.
– У вас сегодня обмолвка, – подхватывает хозяйка. – Это когда дама случайно говорит кавалеру «да». Обмолвясь.
– Давай спать, – обращаюсь я к Марго.
– Бери, – обращается она ко мне.
И я никак не могу решить, что лучше… На что первое посмотрю, от того и не могу оторваться…
Можно, конечно, предсказывать будущее по руке. Но можно и по физиономии. Уверяю вас, там написано куда больше. Мой бедный отец стоял надо мной, одной рукой содрав с меня одеяло, а другой держась за стол:
– Ты что, в школу не идешь? – прохрипел он. – Мать из сил выбивается…
«Материя первична… – думал я, умываясь. – Какая лажа!.. Умираешь, и мир умирает в тебе. Одновременно».
В глубине школьного коридора разглядев классную, я оживил в своих лобных пазухах запах духов, снюханный накануне в ее прихожей. «Мы ошибаемся, – подумал я отчего-то, – когда считаем, что, находясь на более высоком уровне умственного развития, чем окружающие, сильно на них влияем – ни один уровень не волнует людей так, как их собственный». Мне вдруг захотелось уединиться с Марго, прямо сейчас, прямо здесь, посреди звенящего всеми стенами коридора!..
Художник тащит на холст то, что у него в глазах, стараясь не разляпать. Композитор кроет нотный лист крючками, выдавливая из себя всё до шороха. Честны танцор, актер, архитектор: как еще не лягнул на сцене первый, не подавился паузой второй, не отделал фасад третий, чтоб обвинить их в недобросовестности?.. Писатель же не открывает всего, что хотел, что знает. Ложь «изреченной мысли»… Суть повествования – недомолвка. Подбирают слова ближе к родовым, лепят из них фразы, просеивая свои веды, перенося на бумагу лишь то, из чего, как из семени, должен подняться в уме читателя тенистый дуб романа или стройная повесть. Оригинал же не скопирован, изначальный дуб неповторим. Слова – не гены.
– То есть ты хочешь сказать, что художественное мышление оперирует видениями, легче передающимися цветом, движением, звуком, чем словами.
– Или целиком.
– Ты имеешь в виду кино?
– Писатели в ужасе от экранизаций.
– Что же тогда?
– Мышление – это ведь озвучиваемое изображение с примесью консистенции, вкуса, запаха. Та же реальность. Кино изначально – изображение, потом – звук, цвет. Добавится и остальное, станут записывать все это. Всем станут обмениваться, найдут доступ такого во внутренний мир, примутся выращивать прошлое, меняться прошлым, учить его взаимодействовать с настоящим, внешним, даже станут играть в будущее. С перемоткой и внесением изменений в судьбу. Судьба – это всего лишь череда внезапных прояснений зрения.
– Ну, допустим. К чему все это?
Я опустил глаза на раскрытую тетрадку, лежавшую перед Эммой Георгиевной. Последовавшая моему примеру, что она могла там снова прочесть – в этом финале, наскоро набросанном накануне вечером? «Ничто не сподвигло бы его на анальный секс…» И далее в том же духе…
– Что-то мне все это не нравится. До сих пор мы читали – все было легко, светло… Да, мало действия, но…
– Вас смущает жесткость концовки? Когда-нибудь за гораздо более жесткий текст дадут Нобелевскую премию.
– Ты к ней неравнодушен?
– Еще парочку заездов в ваш санаторий, и у меня появятся шансы.
– Ты ведь знаешь, я не считаю тебя больным. В определенном смысле ты пересек черту нормы, и неизвестно, не опасно ли это для тебя.
– Для окружающих. Оберегать кого-то от него самого – это и есть пересечь черту нормы…
Я почувствовал холодок с ее стороны – признак перехода от доверительной беседы к общению с пациентом. Мне вдруг стало невероятно скучно, чрезмерно скучно для 32-летнего человека. Глядя в окно, я словно увидел теперь отсюда, изнутри, беднягу, висевшего вчера на этом дереве, прямо перед этим окном…
Примерно так… наверное, примерно так:
– Знаешь, какое он назвал водоплавающее млекопитающее?
– Какое?
– Селезень.
– А селезень… ну да… – классная поймала на себе взгляд англичанки. – Извини, Катюша, мне надо с Зоей Андреевной…
Они вышли из учительской. Я видел их, остановившихся у окна в коридоре. В школе все важные дела решаются у окна в коридоре.
– Ну что? – спросила Зоя Андреевна.
– Сложно все, – ответила классная.
– Ты с ним говорила?.. И что он?
– Ну что он…
Они помолчали.
– Он, в общем… в общем, он.
– Ты понимаешь, если сейчас ничего не сделать, не предпринять…