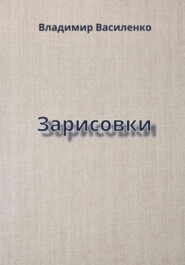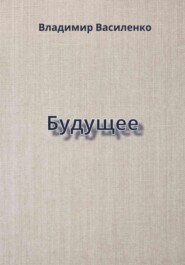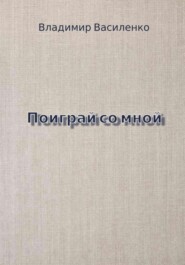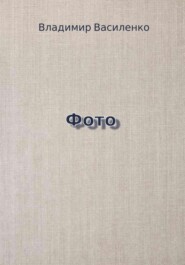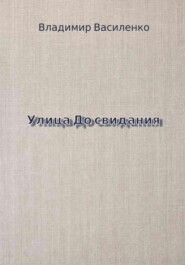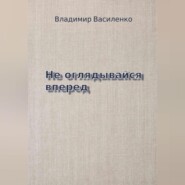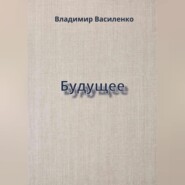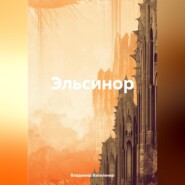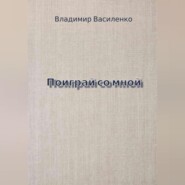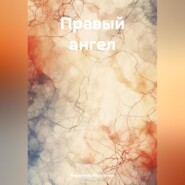По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не оглядывайся вперед
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ведь бывает так, что корабль наскочит на единственный в заливе риф?..
Или при выходе в открытый космос какой-то крючок зацепится за то, за что никоим образом не должен был зацепиться?
Или…
Не бывает, ответил я себе.
Не бывает.
Хороша ты, мать-гитара,
Коли сила есть в руках –
Двое суток «тара-тара…»
И неделю при деньгах.
Мы приедем и уедем
Летом, осенью, зимой.
И опять приснится девкам
Гитарист наш молодой…
Я вздохнул… Песня продолжалась: все тот же припев, разумеется, сменится повторением первого куплета… а там – по желанию публики – глядишь, все пойдет по второму кругу… Спешить некуда, часики тикают, музыка тинькает.
Я заранее предупредил Олика, что уйду пораньше – нужно в город…
Никуда мне не было нужно.
Обернувшись с пригорка на веселившийся двор, на ублажающий публику ансамбль, ведомый по наезженной свадебной колее… ведомый, если б они все знали, каким… от бога… солистом, я сказал себе: «Смотри внимательно… смотри, Миха, кем бы ты стал… смотри, куда бы тебя завели связанные с рок-н-роллом дела!.. Там, во дворе, у “шуровского” микрофона с гитарой “музима де люкс”, это – ты… Благодари Бога, что пронесло…».
«А душа?..» – возразило что-то во мне… А что такое душа?
Правду говорить легко и приятно
Помню его всегда одинаковым: седовласым, лысоватым, краснолицым, со съехавшим с вертикали носом, в этом неизменном плаще болотного цвета, в светло-зеленых спортивных штанах. Без возраста.
Такого трудно не то что любить – такому трудно сочувствовать. В крайнем случае, можно какое-то время смиряться с его пребыванием рядом, пользоваться им и всем, что он может дать, с тем чтобы непременно потом расстаться, наглухо, навсегда отгородиться от этого сырого подвального голоса, от этого нескончаемого его нытья по любому поводу. Будь он энергетическим вампиром, легко пошел бы наверх по трупам своих замученных жертв. Но все было ровно наоборот: каждый, кто по-настоящему пожелал бы, мог вытереть о него ноги.
На первом курсе, на первой в моей жизни картошке, поутру он выводил нашу группу к краю поля, поднимавшегося в небеса, и встречал нас ближе к обеду уже по ту сторону небосклона, внизу, у дальнего леса. Группа невероятно растягивалась… Деревенские, после армии и подготовительного отделения, парни, первыми достигавшие «берега», успевали всхрапнуть, пока отставшие городские, шатаясь, добредали каждый по своей борозде до спасительного края. Тогда он прекращал эти свои, на фоне деревьев, туда-сюда, руки за спину, проходы и заворачивал всех обратно в поле. Отлежавшиеся деревенские переходили на новые борозды и, казалось, не спеша начинали перебирать руками, зависнув в известных позах над распаханною землей. Когда же мы, столичные, с громом и молнией в поясницах, через минуту-другую на полусогнутых выходили на исходную, деревенских мы видели уже далеко впереди.
На «Зеленого» ничто не действовало. Он выполнял свои руководящие обязанности с невозмутимостью автомата. Ровно в шесть утра дежурный по кухне начинал чистить картошку, ровно в восемь – дурацкое утреннее построение на краю заиндевелого поля, ровно час – на обед с переездами, ровно с заходом солнца – отбой. За месяц каждый из нас, включая девиц, ежедневно убирая по тонне-двести картофеля (при солдатской норме, кажется, в тонну), заработал на борозде невероятные для середины семидесятых девяносто рэ. Похудевший на десять кило, вернувшийся с каторги, дома я в один присест схавал шесть огромных бутербродов с маслом, наминая свежайший батон и ртом, и пальцами, и меня до утра рвало желчью.
«Картофельный вождь» – нудно гундящий, вечно командующий препод кафедры физвоспитания: и в страшном сне не приснится. А вот поди ж ты…
Сама по себе кафедра была заслуженная: среди столичных ВУЗов мы прочно держали первое место по стрельбе и настольному теннису и второе по прыжкам и спринтерскому бегу, и даже обыграли однажды ИФК в ленинской эстафете по городу. У нас у единственных был свой роскошный тир и зимний манеж с ямой для прыжков и пыльными резиновыми беговыми дорожками. Все прыгуны и спринтеры зимой паслись у нас. Специально «Зеленый» ко мне не подкатывался, просто просил выступить на межвузовских Спартакиадах. Вспоминая былые свои навыки (легкую атлетику я бросил в десятом классе из-за травмы), я пару недель перед стартом легко тренировался и радовал «Зеленого», регулярно попадая в финал на стометровке. Видя, как нелегко мне это дается, прыгать он меня даже не уговаривал. Так мы и жили три года…
– С твоей склонностью к аналитическому мышлению, – на предпоследнем курсе сказал Зеленый этим своим нудно-певучим баритоном, – ты, Федор, мог бы стать хорошим тренером.
– Почему тренером? – спросил я.
– Да слышал я, как ты нашему Станиславу подсказывал по ходу дела на последней Спартакиаде. Парень под твоим руководством к шестой попытке полметра прибавил.
– Просто управляемость у человека хорошая. А есть же такие дубы…
– Вот-вот. Я и говорю. Иди-ка ты ко мне в науку.
Наука у Зеленого действительно была. Небольшая сколоченная им бригада преподов-физкультурников вместе с тренерами пасущихся в нашем манеже прыгунов и спринтеров доводила до ума не совсем обычную методику тренировки.
– Подумай, Федор. Оставим тебя на кафедре. Года в три-в четыре ты, с твоей головой, диссертацию сделаешь.
– Зенон Владленович, каких наук?
– Что «каких наук»?.. Педагогических, разумеется. Ну, сдашь теорию физвоспитания дополнительно, я помогу, ничего сложного. Подумай. А мне твоя голова ой как сгодилась бы…
Тут и без того… Шесть лет непрерывной скоростной работы, многоскоков, круговой тренировки, штанги на плечах – все это еще отзывалось в моем теле потерянным раем… А тут эти уговоры…
Сошлись на том, что до весны на полгода я сажусь в библиотеку, собираю все что есть на сегодня по развитию скоростно-силовых качеств и делаю обзор… А там видно будет.
Снова я погрузился в мир мышечных переживаний. «Растение – лист, животное – мышца, человек – мозг»… Мозг в прыжке… Мозг стартующий… Мозг под штангой… Мозг – там, за предельным напряжением, на изнанке мышечной радости, на полплеча впереди соперника в финишном створе…
Обзор мой Зеленому приглянулся. Я там, помимо литературы, изложил кое-какие свои собственные соображения насчет… Ну, это неважно. Короче, предложил он мне выступить с уже набранным его группой материалом на Всесоюзной конференции по студенческому научно-техническому творчеству. Материал не мой, но группе уже «пора прозвучать».
Так ранним апрельским утром я оказался в столице «рiдной» Украины, на совершенно пустом Крещатике.
Василиса все время отставала. Обернувшись, я увидел, как она, стоя в разметанных по Крещатику утренних пыльных лучах, обращается к дворничихе, как та пожимает в ответ плечами, продолжая разметать своею метлой солнечный воздух с Василисою в центре.
– Никогда не поверю, – сказала Василиса, догоняя меня, – чтобы дворник не знал улиц.
К следующему блюстителю городской чистоты обращался уже я, на украинском… Поселили нас в полупустой перед Майскими общаге. Оккупировав комнату, я первым делом достал из сумки проектор, установил слайды и сел повторять доклад. Весь этот устроенный Зеленым из научного мероприятия идиотизм, когда назубок надо знать текст, гипнотизировать аудиторию голосом и артистизмом, короче, делать что угодно, только чтобы диплом мероприятия оказался именно у нас, и утомлял, и подстегивал: я опять соревновался, опять всем, и прежде всего себе самому, что-то доказывал. Там, впереди, опять маячило подобие пьедестала… Поскребшись в дверь, Василиса пробралась в комнату, села на застеленную кровать, наблюдая за тем, как я, уставившись в тусклое изображение на стене, шевелю губами. Сидела тихо, но все равно отвлекало.
– В нашей комнате, – сообщила она, когда я наконец выключил проектор, – шесть человек, а у вас пусто.
«Напьюсь, – почему-то подумал я. – После завтрашнего выступления напьюсь».
Она поднялась и сомнамбулой вышла.
Назавтра я, стоя за трибуной с длиннющей указкой («Указка – в левой! Смотреть в зал!» – Зеленый), излагал артистическим тенором («Громче! Внятней!») конструктивные особенности заменяющих штангу устройств, позволяющих в тренировках спринтерам и прыгунам разгрузить позвоночник («Подчеркнуть: 90% прыгунов страдает травматическим радикулитом!») и, в качестве апофеоза, демонстрировал модель изобретения – рюкзачок с воздушной струей – создающего попутный либо встречный ветер и позволяющего спринтерам преодолевать скоростной барьер («Сразу же по окончании доклада упаковать в сумку и не показывать ни под каким предлогом! Беречь, как зеницу ока!»)…
Когда я замолчал, в зале стояла полная тишина. Такого напора от представителя ВУЗа, до сих пор не выдающегося в плане научно-технического творчества, никто, видно, не ожидал. Указка в левой. Дикция четкая. Ни запинки в изложении десятиминутного текста с «очередями» сложных терминов, неожиданных в данной тематике. О полуфантастической сути изобретений и говорить нечего… В общем, я спускался с трибуны, как бог с Олимпа.
– Ну всё… – уже шептала мне в ухо Василиса. – Теперь меня в моей секции точно зарежут…
Она оказалась права ровно наполовину.
Стояла полноценная южная весна. София сверкала куполами за версту. Осененный крестом, глубоко внизу блестел Днепр, по мосту с берега на берег перебирались голубенькие цепочки вагонов. В Лавре ноги сами несли под уклон по деревянным настилам: на мгновение зависая над святыми мощами, по инерции ты уже оказывался под землей…