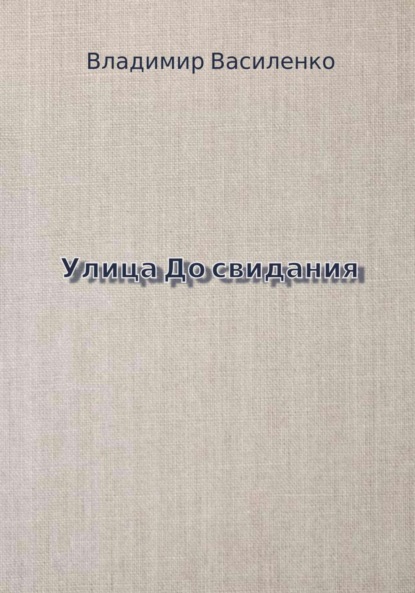По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Улица До свидания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Женщина за забором остановилась. Через минуту мы сидели с моей незабвенною англичанкой за деревянным столиком, и я, сверкая глазами, отпугивал норовивших приблизиться сумасшедших: сумка, очевидно с передачей, стояла на скамеечке между нами.
– Ваш выпуск все до сих пор вспоминают. Знаешь, я после восьмого хотела забрать тебя в свой класс. Даже в девятом просила у Веры… Ивановны.
– А можно было? Забрать?
– Главное – аргументы. У Веры Ивановны четыре медалиста в классе. Ну вот. А у меня один… одна – аргумент? В десятом уже не просила. Мы в десятом как-то с ней разошлись…
– Как это: разошлись?
– Ну, так. Разошлись… Помнишь тот случай, стишок на доске? Там точно что-то было… Ты ведь не знаешь, что да кто, да? Ну, вот. Спрашиваю у Веры: выяснила? Да, говорит, сразу подмигнул тогда в классе, кто написал. Ну? Кто? Она: я дала слово не выдавать, все уладится, ничего такого… Разве же я кому-нибудь сказала бы, я же сама ее привела, чтоб не дай бог… И знаешь, так обидно. Ну, думаю, да-а-а… С тобой ничего серьезного?
– Да нет. Просто обследование… Для справки.
Она засобиралась.
– Пойду… Здесь моя племянница. В интернате. Кстати… – она запнулась. – Твоя одноклассница.
– А что с ней, серьезное что-то? (Нет, просто решила пожить с идиотами) Одноклассница? Кто?
– Милочка Берест.
– Она… ваша племянница? Не знал… Никто, по-моему, не…
– Да, я считаю, в школе нет родственников, а есть учителя и ученики.
– И… что с ней?
Я вспомнил Милу. Необычное лицо, часто даже красивое, но той красотой, в которой что-то вдруг останавливает. Большие, замиравшие на ваших, глаза. Иногда красноречивые. Это ведь они, единственные в классе, сказали мне тогда, что я под наблюдением. Предупредили.
– Так что с ней? – в третий раз спросил я.
Зоя Андреевна вздохнула. Поставила сумку на стол (я тут же опустил ее на скамейку, спрятав за нами).
– Сестра говорила, я сначала не верила. Милочке было двенадцать, когда она нашла ее дневник. Такие странности… такая жесткость, жестокость по отношению к себе… не приведи господь… Главное, внешне – никаких признаков, нормальная девочка. Потом – ничего… Потом, в десятом… полный садомазохизм: какой-то избранник, которому она, видите ли, опоздала открыться, и ей остается на все это смотреть, слушать, как все это происходит… ну, мы теперь люди взрослые… как он спит с другой у нее на глазах. Ну, ты представляешь: «спит на глазах»… Зайду после уроков, сестра на работе, музыка гремит! И все одно и то же: «Вновь, вновь, вновь, не умирай любовь, не умирай любовь!» Вперится в одну точку. Ужас… Потом… потом того хуже… говорить не хочется… После института – по наклонной. Порвала документы. Сначала шторы изрезала. Потом вены. Сестра на глазах старела… Теперь вот – здесь.
– Я не знал, что у вас сестра.
– Они жили в последнем доме на той же улице, что и школа. В пятнадцатом. А прямо под ними моя отличница Рита Воронова жила. С мамой. Я иногда к ним заходила. Такая хорошая, милая семья: мама и дочь… Мама, правда, часто была на дежурствах, по два дня… а то и по три… Милочка наша откуда-то все ее дежурства знала, даже наперед. Собираюсь к ним зайти – Мила мне: «Не ходи, Анна Сергеевна на дежурстве». Знаешь… Может не надо тебе говорить, может, это меня не красит, но… я иногда думала: заберу тебя в свой класс, и вы с моей Ритой подружитесь. Ты меня пугал своей резкостью. Настораживал. Она же – сама мягкость. Такая девочка у меня была. Прелесть… Извини, не знаю, зачем я это сказала… Я за тебя всегда болела. Понимаешь?
Она провела рукой по моим волосам.
– Ну, пойду к Миле. Сколько же это мы с тобой не виделись? Лет пятнадцать?..
Я оценил ее мужество. Она говорила со мной так, словно мы встретились на автобусной остановке, а не в психушке.
Что-то я не сказал… Что-то такое… Я рванул ей вслед, добежал до угла забора:
– Зоя Андреевна!
Испугался, что уже не услышит… Так и есть… Нет. Через минуту вернулась, видно далеко уже ушла. Подошла теперь к забору, взявшись рукой за треугольную верхушку доски. Я потянулся к ее уху. Внимательно разглядывая ее щеку, сказал:
– Не говорите ей… не говорите, что меня видели.
– Конечно, не скажу. Конечно.
Она притянула меня, вымочив мне лицо…
Кабинет Эммы Георгиевны располагался в нашем корпусе, на нашем же этаже. Но иногда она уходила в интернат, в белое здание, стоявшее за забором. Там, в отдельной, как правило незанятой, комнате она писала свою диссертацию. Там же предпочитала в эту последнюю неделю общаться со мной, самолично меня туда отводя. Назад я возвращался один. В первый мой поход туда, три дня назад, сразу после майских, интернат удивил меня своей внешней будничностью, типовым обликом, напоминавшим нашу школу, с тем же казенным крыльцом на широких ступенях, с той же двойною казенною дверью… Профиль заведения выдавало снаружи только одно: два из пятнадцати флагов республик, вывешенных к празднику, были нанизаны на флагштоки кверху ногами. Здесь это было обычным делом. С месяц назад, например, интернатские ездили на местное кладбище одного своего хоронить и вернулись с покойником. Могилу засыпали, но не заселили.
Впоследствии я спокойно относился к тому, с чем столкнулся впервые в вестибюле этого обычного снаружи здания – к безобидным в принципе идиотам с вывороченными лицами, а то и конечностями, перемещавшимися по холлу и этажам вперемешку с нормальными с виду жильцами, которым, главное, поменьше смотреть в глаза. Под Новый год здесь, в холле, устраивали танцы.
Эмма Георгиевна регулярно обсуждала со мной мою повесть, но что-то, видно, не совсем у нее ладилось – с повестью, а может быть, со мной. Думаю, ей хотелось использовать интересный материал в своей диссертации, но не в ущерб разрабатываемой системе. Приходилось ждать, что победит: интерес или система.
В день, когда я встретил Зою Андреевну, после обеда я в предпоследний раз посетил интернат. Мы с Эммой Георгиевной плавно приближались к финалу почти завершенной повести. Речь шла об отношениях прошлого с настоящим, о том, что прошлое утекает туда же, откуда мы черпаем будущее, поэтому помнить и знать – совершенно разные вещи. Эмма Георгиевна как раз собиралась ответить мне на все это, когда в большой комнате, соседней с кабинетом, загремело упавшее ведро.
– Я приберу, – услышал я совершенно нормальный голос из юности.
Было слышно, как там, в большой, завозили по полу тряпкой, топчась вблизи открытой к нам двери, но не показываясь в ней. Эмма Георгиевна поднялась. Заложив руки за спину, вышла туда.
– Ну, как ты, Мила, сегодня, – спросила она. – Получше?
– Получше.
– Милочка, у нас сегодня какой день? – послышался сладенький голосок пожилой санитарки.
– Сегодня вторник, – совершенно спокойно прозвучало в ответ.
– А завтра?
– Завтра среда.
Сидя на табуретке, глядя в открытую дверь, я все кивал, пока не поймал себя на этом занятии, на том, что делаю то же, что когда-то моя классная надо мной в своей прихожей. Сегодня был четверг.
– Беда… – войдя, вздохнув, Эмма Георгиевна затворила дверь в большую.
Возвращаясь из белого дома в свой желтый, боковым зрением я различил необычное движение в приинтернатовском сквере. Обернувшись, я увидел, как по двум дорожкам с разных сторон два санитара бегут к стоявшему как раз напротив недавно покинутого мной кабинета дереву, под веткой которого, довольно высоко, висит уже перестающий дергаться человек. Резко отвернувшись, я зашагал туда, куда шел, стараясь ни о чем не думать.
Назавтра с утра мы закончили с Эммой Георгиевной мою повесть. Жесткость концовки, не совпадавшая с основной тональностью, ее озадачила. «Насколько же больше озадачит нас всех реальность свободного чтения мыслей друг друга, ожидающая впереди», – подумал я. Именно этим кончалось повествование – примеркой героем на себя образов, рождающихся в сознании близкого человека, сравнением этой примерки со взаимодействием тел в любовном процессе. В конце разговора я, сказав глупость, почувствовав холодок со стороны моей целительницы, молча следил за тем, как мое наступившее равнодушие ко всему наполняется понемногу, как ванна водой, фразами Эммы Георгиевны (фраза, пауза), ставшей рядом со мной у окна:
– Вернешься домой – не забывай, о чем мы беседовали все это время. Дело не в лекарствах. По крайней мере, в твоем случае. Лекарства угнетают, давят. Нет таких, чтоб темную волну давили, а светлую нет. Рано или поздно, мы, вероятно, снова встретимся. Как скоро и надолго, зависит от тебя. Насмотрелся на сей раз? Ну вот. Понял меня?.. Ладно, иди мойся.
Она сама еще вчера предложила мне вымыться здесь напоследок, перед тем как переодеться в чистое, оставленное мамой. Мама придет после обеда. Интернатскую душевую для поочередно мывшегося здесь персонала обоего пола предварял небольшой предбанник. Оставив в нем чистое и грязное, я проник в холодное нутро выложенной кафелем душевой на три «соска». Первая стадия возвращения к нормальной жизни… Индивидуальное омовение… Комнатку заволокло паром.
Я был уже чист, как Аполлон, когда погас свет. Какое-то время я стоял под струями в темноте, причина которой, как я догадывался, серьезнее, чем чей-то шальной щелчок выключателя, расположенного в предбаннике – оттуда ведь хорошо слышно, что внутри кто-то моется. Света в предбаннике сквозь дверную щель также не наблюдалось. Вдруг показалось, что дверь отворили и затворили, но необычно тихо и быстро – двумя выверенными движениями… Через минуту-другую началось вкрадчивое вплетание водяного шелеста, идущего слева, в гулкий шум моего водопада. Понемногу общий шум стал двойным. Двойной силы. Вслушиваясь, я различил короткое слабое «м-м…» в звучании струй, которое больше не повторялось. Чужое тепло достигло моей темноты, заставив слух проникнуться возникшим слева разнообразием водяной дроби по разным частям тела, подставляемым струям. Вслед за тем от наплывающих на меня в темноте рук, тела, лица я передернулся, замерев, сжавшись под перекошенным водопадом… Оборотной стороной затянувшегося не-столкновения стала новая стадия звукового психоза: в волнах водяного шума слева я различил сдерживаемое дыхание, слишком неровное, чтобы быть галлюцинацией, но понемногу теряющееся в мощном звуке воды, который начал слабеть: я догадался, что – не вообще, а лишь для моих ушей, не выдерживающих напряжения. Ожидание притупилось. Я снова почувствовал теплый градус струи, бьющей по моим плечам. Убежденный в соседстве, но уже не ждущий столкновения в любой момент или неосторожного голоса, я пережидал темноту, наготу, воду… Не знаю, как долго. Прежде чем решиться. Помню свои руки, лежащие на вентилях… внезапно оставляющую меня смелость… счет: «Раз… два… три!»… быстрый пролет к предполагаемой двери (и впрямь бесшумной!)… лихорадочное нащупывание выключателя за косяком… обе клавиши сразу!.. Предбанник и душевая, смазанные тусклым светом, были пусты. Из среднего подсолнуха в душевой хлестало! Какой из них был мой?! Выключил ли я воду?!
Часа через два мама вывела меня за больничные ворота. Я словно впервые увидел церковь в поле.
Она не говорила, пока я подлечивался, что на этот раз отец не выкарабкался… Как тянула сама, так сама и управилась со всем последним. По крайней мере, ей теперь будет легче. Да и я на шее сидеть не собираюсь. Что-нибудь заработаю – на повести или вот… на этих записках. Почему нет? «Все образуется», – говорю я, смотрясь перед сном в зеркало в нашей ванной, чувствуя за своим лицом то, второе, нежнее и долговременнее моего.