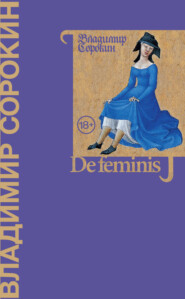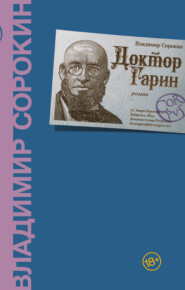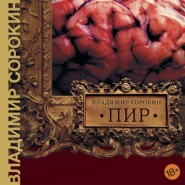По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Генерал щёлкнул переключателем:
– Двадцать девятый, я основной, приём.
– Двадцать девятый слушает, приём, – проскрипели наушники.
– Горохов, пизда ушастая, отстаёшь на корпус, раскрой глаза!
– Есть, товарищ комполка!
Точка догнала палочку и прилипла к ней.
– Близко, мудак! Куда втюрился, распиздяй!
– Есть, товарищ комполка!
– Сядем, выгоню к ебене матери, будешь картошку возить!
– Есть, товарищ комполка!
Точка отошла от палочки на должное расстояние.
Генерал поправил шлем и, щурясь на солнце, запел «Если завтра война».
Прощание
Капитан обнял всхлипывающую Наташу:
– Ты вечер проплакала целый… В поход ухожу ну и что же? Теперь ты жена офицера, Наташ. Теперь ты военная тоже.
Наташа вздохнула, вытерла слёзы.
Капитан улыбнулся:
– Моя боевая подруга! Нам трудностей выпадет всяких. Я верю, мы будем друг другу верны как военной присяге.
Он поцеловал её в щёку, тихо проговорил:
– И пусть, Наташ, море полярное стонет, бросаются ветры в погоню. Вот видишь, кладу я ладони на плечи твои как погоны.
Его руки опустились на её плечи, пальцы и кисти стали плоскими, позеленели. Поперёк пальцев протянулись две красные полоски.
Наташа покосилась на погоны, грустно улыбнулась:
– Всё ещё младший сержант…
Капитан уверенно кивнул:
– Как вернусь, будешь сержантом. Обещаю. Только поменьше на танцы ходи. И с Веркой Сахаровой поменьше якшайся.
Наташа кивнула и быстро поцеловала его в подбородок.
Одинокая гармонь
Николай Иванович трижды крутанул расхлябанную ручку, прижал к уху трубку и громко зашептал, прикрыв рот рукой:
– Алё! Город? Девушка, соедините меня, пожалста, с отделением НКВД. Да. Да. Конешно, конешно, я не спешу…
Он провёл дрожащей рукой по небритой щеке и покосился на небольшое окошко. За грязным стеклом горел толстый месяц. На облепленном подоконнике желтели высохшие осы.
Николай Иванович вздрогнул, прильнул к трубке:
– Да! Да! Здравствуйте!.. Да, простите, а кто это… дежурный офицер? Товарищ дежурный лейтенант, то есть простите – офицер… это говорят, это говорит с вами библиотекарь деревни Малая Костынь Николай Иваныч Кондаков. Да. Вы извините меня, пожалста, но дело очень, прямо сказать, очень важное и такое, я бы сказал, непонятное… – Он согнулся, быстро зашептал в трубку: – Товарищ дежурный офицер, дело в том, что у нас в данный момент снова замерло всё до рассвета – дверь не скрипнет, понимаете, не вспыхнет огонь. Да. Погасили. Только слышно – на улице где-то одинокая бродит гармонь. Нет. Я не видел, но слышу хорошо. Да. Так вот, она то пойдёт на поля за ворота, то обратно вернётся опять, словно ищет в потёмках кого-то, понимаете?! И не может никак отыскать. Да, в том-то и дело, что не знаю и не видел, но слышу… Во! Во! И сейчас где-то пиликает! Я? Из библиотеки… Да нет, какие посетители… да. Да! Хорошо! Не за что. Не за что! Ага! Вам спасибо! Ага! До свидания. Ага.
Он положил трубку, достал скомканный платок и стал вытирать пот, выступивший на лбу.
Через час по ночной деревенской улице медленной цепью шли семеро в штатском. Толстый месяц хорошо освещал лепившиеся друг к дружке избы, под ногами хлюпала грязь. Слева в темноте тоскливо перекликнулись две тягучие ноты, задребезжали басы, и из-за корявой ракиты выплыла одинокая гармонь.
Семеро остановились и быстро подняли правые руки.
Гармонь доплыла до середины улицы, колыхнулась и, блеснув перламутровыми кнопками, растянулась многообещающим аккордом.
В поднятых руках полыхнули быстрые огни, эхо запрыгало по спящим избам.
Гармонь рванулась вверх – к чёрному небу с толстым месяцем, но снова грохнули выстрелы – она жалобно всхлипнула и, кувыркаясь, полетела вниз, повисла на косом заборе.
Один из семерых что-то скомандовал быстрым шёпотом.
Люди в штатском подбежали ближе, прицелились и выстрелили.
Посыпались кнопки, от перламутровой панели отлетел большой кусок, сверкнул и пропал в траве. Дырявые мехи сжались в последний раз и выдохнули – мягко и беззвучно.
Саженцы
Монотонно грохоча, поезд пролетел длинный мост. За окнами снова замелькал смешанный лес.
Кропотов вышел из купе в коридор, встал рядом с Тутученко. Вагон сильно качало. Сквозняк колыхал накрахмаленную занавеску. Тутученко курил, пуская дым в открытое окно.
– Сквозь леса, сквозь цепи горных кряжей дальше, дальше, дальше на восток… – рассмеялся Кропотов, разминая сигарету.
– Семьдесят стремительных пейзажей за неделю поезд пересёк, – не оборачиваясь, пробормотал Тутученко.
– Да вот уже восьмой рассвет встаёт. – Кропотов зевнул, чиркнул спичкой и, слегка подтолкнув Тутученко, кивнул на соседнее купе: – Едет, едет, едет садовод…
– Та я знаю, – отмахнулся Тутученко, – он везёт с собою на восток коммунизма маленький росток.
Садовод из седьмого купе пил чай вприкуску.
Месяц с лишним он в дороге был. По земле ходил, по рекам плыл. Где на лошади, а где пешком – шёл к заветной цели прямиком.
– Двадцать девятый, я основной, приём.
– Двадцать девятый слушает, приём, – проскрипели наушники.
– Горохов, пизда ушастая, отстаёшь на корпус, раскрой глаза!
– Есть, товарищ комполка!
Точка догнала палочку и прилипла к ней.
– Близко, мудак! Куда втюрился, распиздяй!
– Есть, товарищ комполка!
– Сядем, выгоню к ебене матери, будешь картошку возить!
– Есть, товарищ комполка!
Точка отошла от палочки на должное расстояние.
Генерал поправил шлем и, щурясь на солнце, запел «Если завтра война».
Прощание
Капитан обнял всхлипывающую Наташу:
– Ты вечер проплакала целый… В поход ухожу ну и что же? Теперь ты жена офицера, Наташ. Теперь ты военная тоже.
Наташа вздохнула, вытерла слёзы.
Капитан улыбнулся:
– Моя боевая подруга! Нам трудностей выпадет всяких. Я верю, мы будем друг другу верны как военной присяге.
Он поцеловал её в щёку, тихо проговорил:
– И пусть, Наташ, море полярное стонет, бросаются ветры в погоню. Вот видишь, кладу я ладони на плечи твои как погоны.
Его руки опустились на её плечи, пальцы и кисти стали плоскими, позеленели. Поперёк пальцев протянулись две красные полоски.
Наташа покосилась на погоны, грустно улыбнулась:
– Всё ещё младший сержант…
Капитан уверенно кивнул:
– Как вернусь, будешь сержантом. Обещаю. Только поменьше на танцы ходи. И с Веркой Сахаровой поменьше якшайся.
Наташа кивнула и быстро поцеловала его в подбородок.
Одинокая гармонь
Николай Иванович трижды крутанул расхлябанную ручку, прижал к уху трубку и громко зашептал, прикрыв рот рукой:
– Алё! Город? Девушка, соедините меня, пожалста, с отделением НКВД. Да. Да. Конешно, конешно, я не спешу…
Он провёл дрожащей рукой по небритой щеке и покосился на небольшое окошко. За грязным стеклом горел толстый месяц. На облепленном подоконнике желтели высохшие осы.
Николай Иванович вздрогнул, прильнул к трубке:
– Да! Да! Здравствуйте!.. Да, простите, а кто это… дежурный офицер? Товарищ дежурный лейтенант, то есть простите – офицер… это говорят, это говорит с вами библиотекарь деревни Малая Костынь Николай Иваныч Кондаков. Да. Вы извините меня, пожалста, но дело очень, прямо сказать, очень важное и такое, я бы сказал, непонятное… – Он согнулся, быстро зашептал в трубку: – Товарищ дежурный офицер, дело в том, что у нас в данный момент снова замерло всё до рассвета – дверь не скрипнет, понимаете, не вспыхнет огонь. Да. Погасили. Только слышно – на улице где-то одинокая бродит гармонь. Нет. Я не видел, но слышу хорошо. Да. Так вот, она то пойдёт на поля за ворота, то обратно вернётся опять, словно ищет в потёмках кого-то, понимаете?! И не может никак отыскать. Да, в том-то и дело, что не знаю и не видел, но слышу… Во! Во! И сейчас где-то пиликает! Я? Из библиотеки… Да нет, какие посетители… да. Да! Хорошо! Не за что. Не за что! Ага! Вам спасибо! Ага! До свидания. Ага.
Он положил трубку, достал скомканный платок и стал вытирать пот, выступивший на лбу.
Через час по ночной деревенской улице медленной цепью шли семеро в штатском. Толстый месяц хорошо освещал лепившиеся друг к дружке избы, под ногами хлюпала грязь. Слева в темноте тоскливо перекликнулись две тягучие ноты, задребезжали басы, и из-за корявой ракиты выплыла одинокая гармонь.
Семеро остановились и быстро подняли правые руки.
Гармонь доплыла до середины улицы, колыхнулась и, блеснув перламутровыми кнопками, растянулась многообещающим аккордом.
В поднятых руках полыхнули быстрые огни, эхо запрыгало по спящим избам.
Гармонь рванулась вверх – к чёрному небу с толстым месяцем, но снова грохнули выстрелы – она жалобно всхлипнула и, кувыркаясь, полетела вниз, повисла на косом заборе.
Один из семерых что-то скомандовал быстрым шёпотом.
Люди в штатском подбежали ближе, прицелились и выстрелили.
Посыпались кнопки, от перламутровой панели отлетел большой кусок, сверкнул и пропал в траве. Дырявые мехи сжались в последний раз и выдохнули – мягко и беззвучно.
Саженцы
Монотонно грохоча, поезд пролетел длинный мост. За окнами снова замелькал смешанный лес.
Кропотов вышел из купе в коридор, встал рядом с Тутученко. Вагон сильно качало. Сквозняк колыхал накрахмаленную занавеску. Тутученко курил, пуская дым в открытое окно.
– Сквозь леса, сквозь цепи горных кряжей дальше, дальше, дальше на восток… – рассмеялся Кропотов, разминая сигарету.
– Семьдесят стремительных пейзажей за неделю поезд пересёк, – не оборачиваясь, пробормотал Тутученко.
– Да вот уже восьмой рассвет встаёт. – Кропотов зевнул, чиркнул спичкой и, слегка подтолкнув Тутученко, кивнул на соседнее купе: – Едет, едет, едет садовод…
– Та я знаю, – отмахнулся Тутученко, – он везёт с собою на восток коммунизма маленький росток.
Садовод из седьмого купе пил чай вприкуску.
Месяц с лишним он в дороге был. По земле ходил, по рекам плыл. Где на лошади, а где пешком – шёл к заветной цели прямиком.