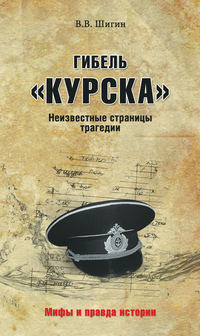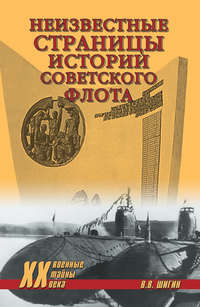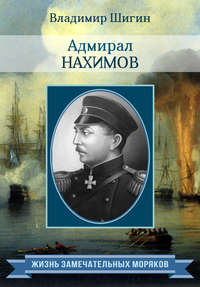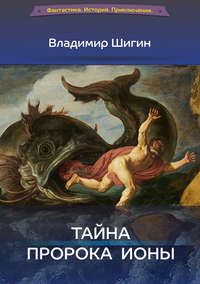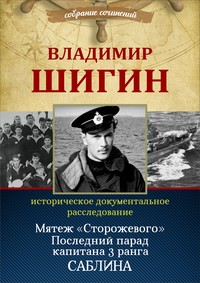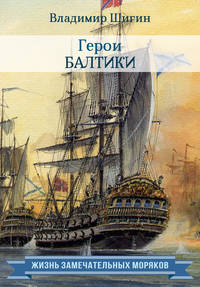Битва за Степь. От неудач к победам
Секретарем миссии был назначен коллежский асессор Павел Яковлев, уже известный к тому времени литератор и приятель Пушкина.
Состав дипломатической миссии и общее руководство Петербург оставил за собой. Организация же была поручена оренбургскому генерал-губернатору Петру Эссену.
Прибыв в Оренбург, Негри первым делом явился к губернатору. Генерал от инфантерии Эссен был человеком деятельным и толковым. Опытный военачальник, прошедший все Наполеоновские войны, он три года назад был направлен на дальнюю границу империи с заданием ее укрепления и подготовки продвижения в южные степи. Никаких недомолвок между Негри и Эссеном не возникло.
– Можете, Александр Федорович, рассчитывать на меня полностью! – сразу же заявил генерал. – Я приму все средства к обеспечению прохода вашей миссии через казахские степи.
Вскоре Негри уже имел двух толковых толмачей-переводчиков. Одновременно закупались лошади и верблюды для перевозки вещей. Помимо этого, Эссен позаботился и о казачьем конвое при двух пушках.
– У меня к вам, Александр Федорович, есть и личная просьба – договориться с бухарцами по обеспечению безопасности наших караванов в степи, уж больно много хивинских шаек там нынче рыщет. Хивинский хан побаивается Бухару как по могуществу, так и по делам веры. Может, что и получится, – попросил Негри на следующей встрече губернатор.
– Всенепременно обращу на это внимание эмира! – заверил генерала посол.
* * *Немаловажной была и разведывательная задача миссии, поэтому в ее состав были включены инженерные капитаны Генс и Рене, поручики Тимофеев и Вольховский, во главе с офицером Генерального штаба Мейендорфом.
Весьма удачным выбором являлся и штабс-капитан барон Егор Мейендорф по кличке «Рыжий» из остзейских немцев. Выпускник знаменитого училища колонновожатых, он прошел всю кампанию 1812 года и Заграничный поход, проявив себя талантливым картографом, получив несколько орденов и шпагу «За храбрость». Как свидетельствует его формулярный список, «Рыжий» знал русский, немецкий и французский языки, а также «часть математических наук». Интересно отметить, что в 1818 году он получил бриллиантовый перстень «за сочинение плана города Павловска». Два года назад любознательный барон поступил в Геттингенский университет и вот теперь был неожиданно отозван в экспедицию.
Большой удачей стало назначение в миссию капитана-инженера Генса (из эстляндских немцев). Генс был блестяще образован, имея за спиной Дерптский университет и Петербургский военный инженерный корпус. Карьеру начал инженером в Оренбурге, быстро обратив на себя внимание губернского начальства. При этом во время миссии, помимо инженерной деятельности, Генс проявил большую склонность к разведывательной деятельности.
Перед отъездом Мейендорфу было вручено «Наставление… касательно обозрения Киргизской степи во время следования… с посольством в Бухару». Помимо всего прочего, ему предлагалось исследовать пути от Троицка до ханства, течения рек, изучить возможность заселения обширных просторов к югу от Оренбурга. Кроме этого, Мейендорф должен был «назначить места, удобные для крепостей вдоль по дорогам от крепостей Орской и Троицкой… до реки Сырдарьи, на коей равномерно назначить место, удобное для крепости». Необходимость получения этой информации обосновывалась важностью обезопасить караванные пути в Бухарию и Хиву. Капитану Генштаба Генсу надлежало также провести астрономическое определение долгот и широт, составлять маршруты путей, на основании чего подготовить «Общую генеральную карту», а также вести журнал «путеследования в Бухару и обратно».
Забегая вперед, скажем, что впоследствии Генс станет выдающимся организатором российской разведки в Центральной Азии и очень серьезной фигурой в Большой Игре.
Что касается Вольховского, то в истории он остался только благодаря тому, что являлся однокашником Пушкина по Царскосельскому лицею. Это о нем писал поэт:
…Спартанскою душой пленяя нас,Воспитанный суровою Минервой,Пускай опять Вальховский сядет первый,Последним я, иль Брогльо, иль Данзас…Офицеры должны были производить картографическую съемку местности и составить детальное описание пути через степи в Бухару. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, все они числились гражданскими чиновниками. Мейендорф, например, должен был вести подробный журнал событий, производить астрономические наблюдения, а также составить общую генеральную карту казахских степей и Бухарии.
В качестве натуралиста-минералога, который должен был составить научный обзор степных областей, в состав миссии был принят Христиан Пандер, впоследствии известный академик и палеонтолог.
Вторым натуралистом, включенным в миссию, был Эдуард Эверсманн, являвшийся одновременно доктором философии и доктором медицины. Эверсманн был выпускником Дерптского университета, талантливым врачом, пытливым ботаником и зоологом. В экспедиции он значился… купцом. В помощь последнему был назначен оренбургский гарнизонный лекарь Пономарев. Как оказалось, в дальнейшем Эверсманн проявил явную склонность к разведывательной деятельности.
Посольским священником с причетом и походной церковью был определен священник Уфимского кафедрального собора отец Петр (Ильин), а с ним пономарь.
В целом, как мы видим, подготовка к экспедиции была весьма серьезной, состав был просто блестящим. Поэтому в Петербурге от нее ожидали и соответствующих результатов.
* * *10 октября 1820 года миссия двинулась в путь. Караван из 358 верблюдов и 400 лошадей сопровождался военным отрядом, который состоял из сотни казаков, роты солдат и всадников-башкир под командой капитана Циолковского.
Путь путешественников пролегал от Оренбурга до реки Эмбы. Затем на юго-восток к Урачаю – поселению на северном берегу Аральского моря, затем до Ялтар-Куля, стоящего у Сырдарьи, и от реки уже строго на юг, через Казулкумы до Бухары.
В дороге охотились за сайгаками, вкусное мясо которых было кстати.
Достигнув становища казахского султана Арунгазы, Негри представился ему по всей форме, чем доставил предводителю кочевников огромное удовольствие. В ответ Арунгазы сопроводил миссию до Сырдарьи, засвидетельствовав этим свою приверженность к России.
За горой Бассагой местность стала более безводной. Степной ковыль, который прежде встречался в изобилии, сразу исчез. Теперь повсюду была растрескавшаяся от летней жары голая глинистая почва, лишь кое-где покрытая корявым саксаулом. Не обошлось без падежа лошадей.
Встречные бухарские купцы, узнав, куда едут русские путешественники, только качали головами:
– Может статься, что никто из вас, христиан, не вернется домой. Если даже хивинский хан разрешит вам пройти, то уж наш эмир не совершит ошибки, дозволив отправиться обратно. Эмир не хочет, чтобы христиане знакомились с нашей страной!
В один из дней участники посольства увидели десятки валявшихся в песке трупов, над которыми кружили стервятники. То были следы уничтоженного кочевниками очередного каравана…
В четырех днях пути до Бухары посольство встретил предусмотрительно посланный эмиром отряд, доставивший свежие фрукты, хлеб и корм для их лошадей. При этом возглавлял встречавших сам кушбеги (первый министр) Хаким-бек с почетным эскортом из нескольких сотен бухарских всадников. Проявление такого внимания обнадеживало.
Дорогой до Бухары кушбеги неожиданно начал клянчить:
– Если бы вы подарили эмиру две наши пушки, он был бы очень доволен.
Удивленный Негри почесал затылок:
– Будь моя воля, я подарил бы эмиру тысячу пушек, но пушки являются собственностью моего царя, и я не имею права их отдавать.
– Ай! Ай! Ай! – закивал кушбеги чалмой из белого кашемира и тут же принялся выклянчивать для эмира рессорную коляску главы миссии.
На это у Негри козырей не осталось, и он обещал подумать. Когда кушбеги отъехал, посол в сердцах сказал Мейендорфу:
– Кажется, они готовы обобрать нас до нитки. И это при том, что у нас несколько верблюдов, нагруженных подарками для бухарского двора.
Верблюды были гружены мехами и фарфором, хрусталем и ружьями. Помимо этого, Негри вез и огромные напольные бронзовые часы с красивым боем, украшенные золотым павлином.
18 декабря отряд достиг Бухары. К удивлению участников миссии, Бухару окружала не безжизненная пустыня, а аллеи деревьев и многочисленные сады. Так как вначале посольство разместили вне города, доктор Эверсманн предпринял крайне рискованную попытку проникнуть в Бухару, чтобы, смешавшись с местными, выведать все новости. Переодевшись купцом, Эверсманн отправился на свой страх и риск в Бухару…
Через два дня состоялся торжественный въезд посланника в столицу ханства.
Из воспоминаний Мейендорфа: «Наши солдаты маршировали в величайшем порядке и были в полной форме. Звуки барабана вызывали возгласы удивления жителей. Таким образом, мы продвигались вперед среди шума и выражений общего веселья, возбужденного нашим прибытием».
Сама Бухара поразила прибывших: купола мечетей и минареты, дворцы и пруды, бесконечные махали с плоскими кровлями глинобитных домов, мраморные бани и шумные пестрые базары. По улицам шныряли грязные дервиши в плащах, с посохами и сосудами из тыкв, куда собирали подаяние. Всюду соседствовали великолепие и нищета, богатство и грязь…
Из воспоминаний Мейендорфа: «Мы испытывали тягостное чувство, заметив среди азиатского населения русских солдат, доведенных до печального состояния рабов. Большей частью это были 60-летние немощные старики; при виде своих соотечественников они не могли удержать слез и, невнятно бормоча несколько слов на родном языке, пытались броситься к нам. Чрезмерная радость оттого, что они снова увидели наших солдат, вызвала у них большое волнение. Эти трогательные душераздирающие сцены не поддаются описанию».
Местные жители сбегались посмотреть русское посольство. Столько русских они еще никогда не видели. Это вызывало не только интерес, но и страх.
* * *Эмир Бухары Хайдар являлся четвертым правителем узбекской династии Мангытов. По матери он считал себя чингизидом, а по отцу – потомком Мухаммеда. Будучи наследником, Хайдар правил в Каршах, а после смерти отца, прискакав в Бухару, был поднят на белой кошме, концы которой держали вельможи, – таков был обряд вступления в ханство у чингизидов. Затем Хайдар короновался в Самарканде, взойдя на тронный камень Кукташ как потомок Мухаммеда.
Правителем Хайдар оказался разумным и жестоким. Взойдя на престол, он перво-наперво прекратил раздоры и племенные междоусобицы, усмирил старшин племен. Головы летели с плеч одна за другой… После чего стал править уже размеренно и спокойно.
Полководцем Хайдар не был. Зная это, лично воевать не любил, посылая в походы своих военачальников. Сам же увлекался богословием и слыл большим ученым в этой области. При дворцовой мечети Хайдар открыл медресе, где сам и преподавал. Главной страстью эмира было возведение мечетей и открытие медресе. И тех и других он построил и открыл десятки. У хана имелся личный астролог, который получил образование в Исфагане (что считалось очень престижным). Если в молодости эмир был охоч до своего гарема, то позднее поменял его на вино. Так как правоверным пить было нельзя, эмир напивался втихую. Водку гнал для него живший при дворце армянин.
Следует сказать, что инициатором установления отношений с Россией явился именно Хайдар. В 1815 году он прислал в Петербург своего вельможу Мухаммада Юсуфа, чтобы поздравить российского императора с победой над Наполеоном.
* * *Эмир Бухары принял Негри и сотрудников миссии на следующий день после приезда. Члены миссии въехали в ворота дворца эмира между двумя башнями. На вершинах сторожевых башен вместо стражи в гнездах сидели аисты…
Сам эмир Хайдар встретил миссию в приемном зале, сидя на расшитых золотом красных подушках.
Приблизившись к эмиру на десять шагов и произнеся речь на персидском, Негри вручил кушбеги верительную грамоту (также написанную на персидском) и сел на отведенное ему место. Кушбеги немедленно представил письмо императора хану, и тот прочитал его вслух.
Пока эмир читал, члены миссии разглядывали Хайдара. На вид ему было около пятидесяти, лицо венчала красивая борода, но красный нос и обвислые щеки выдавали любителя выпить. На эмире был черный бархатный халат, украшенный драгоценными камнями, и муслиновая чалма, увенчанная султаном из перьев цапли.
Закончив читать, Хайдар вопросительно посмотрел на Негри, мол, а что дальше? Поняв намек, Негри встал и громко хлопнул в ладоши.
После этого казаки внесли в приемную подарки российского императора. Оглядывая их, эмир от удовольствия цокал языком. Особенно понравились ему часы с павлином. После обмена дежурными любезностями Хайдар заявил:
– Непременно нужно, чтобы с той и другой стороны торговцы и караваны часто приезжали! Я готов, чтобы мои войска охраняли идущие на север караваны до Сырдарьи, а оттуда до Оренбурга их должен оберегать уже русский конвой.
– Очень любезно с вашей стороны! – склонил голову Негри.
Однако, когда Негри завел речь о необходимости обменяться постоянными консулами (бухарским в Оренбурге и русским в Бухаре), эмир заупрямился. Иметь официального русского шпиона в столице ему явно не хотелось. Поняв, что пока этот вопрос не решаем, Негри более не настаивал.
Большое впечатление из подарков на эмира произвели две подаренные пушки. Когда, демонстрируя их возможности, наши артиллеристы произвели выстрел в глинобитную стену и та разлетелась в куски, Хайдар вначале пришел в восторг, а затем в ужас. После этого с Негри он стал еще вежливее…
В целом переговоры шли без затруднений, посланнику и членам миссии оказывалось должное уважение и внимание.
После ряда переговоров Негри удалось выкупить из плена семь русских невольников (еще восемь человек тайно пришли к нам сами) и добиться обещания эмира запретить впредь покупку похищенных российских подданных.
В Оренбург Негри доносил: «До сих пор не имею еще верного известия о числе всех русских, находяшихся здесь в неволе. Иные говорят, что мужчин не более шестисот; другие сказывали, что обоего пола с детьми несравненно более. Участь их ужасна и достойна всякого сожаления. Исключая небольшое число, они ведут мучительную жизнь, страдая от жестоких владельцев своих, которые часто или убивают их палочными ударами, или просто режут горло. Небольшое число откупилось, но им не позволяют возвратиться в Россию. Другие же, несмотря на то, что прослужили уже своим мучителям более двадцати лет, до сих пор в неволе. Их содержат более по деревням, особенно со времени нашего приезда сюда».
Тем временем Мейендорф делал заметки по административному устройству Бухарского ханства, нравам и обычаям бухарцев, природно-географическому устройству, изучал торговые отношения Бухарии с другими странами, вычислял количество отправляемых грузов в пудах, каких, куда, сколько и по какой цене. Не сидели без дела и все остальные участники миссии.
Результатом посольства явилась устная договоренность о том, что бухарцы будут охранять до Сырдарьи выходящие из ханства торговые караваны, а оттуда до Сибирской линии их должны сопровождать уже русские конвои. Кроме этого, бухарский хан обещал запретить покупку похищяемых в России людей. Однако никаких официальных документов подписано не было.
На прощание визирь эмира подсластил пилюлю:
– Когда к вам поедет наш посол, то у него будет письменное подтверждение ваших договоренности с Хайдар-ханом!
На это Негри, как опытный дипломат, отреагировал в соответствии с местными традициями:
– Мой государь будет счастлив лицезреть бумагу, подписанную его величеством!
* * *Что касается храброго Эверсманна, то его рискованная импровизация оказалась не лишней, так как членов миссии весьма ограничивали в их передвижениях по городу и всюду сопровождали соглядатаи кушбеги.
Нелегально проникнув в Бухару, доктор целые дни проводил на базарах, в чайханах и на улицах, собирая полезную информацию, а вечерами, запершись в каморке караван-сарая, писал в дневнике об увиденном.
Эверсманн выяснял, что знают купцы о торговых путях, в особенности через афганские перевалы, информацию об истоках и устьях рек, рудников и шахт, добывающих полезные ископаемые. Ненавязчиво расспрашивал о соседних государствах – какое вооружение у тамошних воинов, где стоят крепости, насколько умны их властители, каковы системы управления, безопасности и т. д. Кроме этого, Эверсманн собирал сведения и по местному фольклору и легендам, что тоже для разведки было не лишним. Собираемая информация была весьма ценная, но и опасная. За такую любознательность могли и на кол посадить.
Маскировка Эверсманна оказалась такой убедительной, что даже тайная полиция эмира, повсюду имевшая своих информаторов, за его трехмесячное пребывание в городе ничего не заподозрила.
Правда, в один из вечеров к Эверсманну в караван-сарай внезапно нагрянули двое нищих дервишей, которые с порога возопили, требуя денег:
– Разве у тебя нет Бога?
Дело в том, что для любого мусульманина такой вопрос был самым главным в жизни, и, задавая его, дервиши твердо знали, что посетитель караван-сарая обязательно ответит, что он истово верит в Аллаха, после чего кинет несколько монет. Но с Эверсманном этот трюк не прошел. На вопрос дервишей он коротко ответил:
– Бога у меня нет!
Услышав это, нищие впали в ступор. Чтобы человек вслух отказался от Бога – такого в их жизни еще не было! Пятясь, они молча покинули жилище, тихо затворив за собой дверь…
Увидев на следующий день Эверсманна на улице, они поспешили перейти на другую сторону, чтобы не встречаться с человеком, у которого нет Бога.
Однако успешная разведывательная деятельность Эверсманна внезапно оборвалась. В один из дней доктора случайно опознал купец, лечившийся у него в Оренбурге. Полиция хотела было схватить шпиона, но Хайдар этого сделать не разрешил. А вскоре друзья предупредили Эверсманна, что полиция хочет его убить, едва тот покинет пределы города. После этого доктор предпочел вернуться на территорию посольства и сменить халат купца на сюртук врача.
23 марта 1821 года русская миссия покинула Бухару. Из записок барона Мейендорфа: «…Чтобы преодолеть за два месяца пустыню, требовалось по 150 фунтов сухарей на каждого солдата и по 4 центнера овса на каждую лошадь, кроме того, крупы для отряда, двойного запаса снарядов для наших двух пушек, 15 кибиток, или войлочных палаток, 200 бочек для воды, наконец, немалое количество бочек водки. 320 верблюдов были нагружены провиантом для конвоя и 38 – багажом членов посольства и продовольствием для них… Миссия прошла 1590 верст в 72 дни, прибыла в Бухару 20 декабря, и, оставшись в сем городе до 22 марта, предприняла в Оренбург обратный путь, который и совершила в 55 дней. Военные люди будут уметь ценить скорость сего похода; они с удивлением услышат, что ни одна верховая лошадь не погибла в пути, и что из 470 человек, составлявших конвой, померло только восьмеро, несмотря на чрезвычайные тягости, претерпенные войском, а особливо пехотой».
Вначале предполагалось, что вместе с Негри и его спутниками в Россию направится ответная миссия Хайдара, но она отправилась в путь только спустя четыре года.
16 мая миссию Негри торжественно встречали в Оренбурге.
* * *Генерал-губернатор Оренбурга Эссен еще до возвращения Негри сообщил Александру I и министру иностранных дел, что переговоры в Бухаре принесли хорошие результаты. На самом деле восторженный тон Эссена был не совсем обоснованным. Хотя эмир Бухары принял все сделанные им предложения, эти договоренности, как мы говорили, не были оформлены и закреплены документально.
Понятно, что осуществить в ограниченный срок очень серьезные переговоры с реальным результатом, а также одновременно сбор разведданных по самым разнообразным вопросам было не под силу даже опытному Александру Негри. Впрочем, никто его ни в чем и не обвинял. Миссия сама по себе уже была серьезным успехом. К тому же эмир обещал прислать в ответ и свою миссию, так что налаживание дипломатических отношений хоть и очень медленно (а кто в Азии торопится?) все же началось.
Результаты миссии Негри имели и реальные результаты. Впервые русские профессиональные разведчики проникли столь далеко в степи и пустыни Средней Азии, обследовали огромную местность и караванные маршруты. За время поездки офицеры составили подробные карты, где отображались все пути, колодцы, места стоянки разбойников, пункты таможенников, крепости и оазисы, рудники и реки, сады и сельские поля. Составленные карты пути в Бухару имели стратегическое значение, так как на многие десятилетия станут главным ориентиром для наших войск и разведчиков в Средней Азии.
Богатейшие ботанические и зоологические коллекции, собранные Пандером и Эверсманном, содержали немало ранее неизвестных видов растений и животных. Сам Негри о результате поездки говорил так:
– Если целью миссии было узнать Бухару и изъяснить бухарцам благодетельные виды российского императора, то эта цель достигнута. Что касается остального. Эмир весьма легко принимал почти все мои предложения, но я уверен, что он отнюдь не склонен проводить их в жизнь, по крайней мере, сейчас.
Надо сказать, что миссия Негри вызвала огромный интерес российской общественности и уже в 1821 году несколько периодических изданий – «Сибирский вестник», «Отечественные записки», «Исторический, статистический и географический журнал», «Вестник Европы» предоставили свои страницы для публикации сведений о посещении Бухарского ханства русскими дипломатами.
В награду за труды Александру Негри был пожалован орден Анны 1-й степени – награда, даваемая обычно только генералам.
Помимо секретных карт, участникам экспедиции было разрешено составить собственные описания путешествия в Хиву и издать их в виде книг. Уже в 1823 году в Берлине на немецком языке вышла и книга Эдуарда Эверсманна «Путешествие из Оренбурга в Бухару», дававшая представление о географии, геологии, климате, флоре и фауне зауральских степей. Три года спустя, в 1826 году в Париже вышла и книга Егора Мейендорфа, которая впервые познакомила европейцев с Бухарским ханством. В качестве приложения в нее включена «Натуральная история Бухары», основанная на материалах Пандера и Эверсманна, и карта Бухары, составленная Мейендорфом, Вольховским и Тимофеевым.
Впрочем, этим все результаты русской миссии и ограничились на два последующих десятилетия. Несмотря на то что в последующие двадцать лет бухарские посольства еще пять раз приезжали в Россию, никаких конкретных договоренностей так и не было достигнуто. На все просьбы бухарцев обеспечить «режим наибольшего благоприятствования» для бухарской торговли и обуздать разбойников-хивинцев Петербург отвечал лишь общими декларациями. Отвечали так вовсе не потому, что не хотели дружить с Бухарой (наоборот, очень даже хотели!). Увы, чтобы исполнить просьбы эмира, пока у Петербурга не было ни сил, ни средств. Время серьезного освоения Средней Азии еще не пришло.
Надо ли говорить, что этой паузой незамедлительно воспользовалась Британская Ост-Индская компания.
В 1837 году в Петербург стала поступать информация, что что англичане, «старающиеся с некоторого времени войти в ближайшие торговые связи с бухарцами, недавно опять присылали к ним своих агентов, убеждая заключить условия, по которым англичане стали бы доставлять им все нужные товары самым выгодным для бухарцев образом».
Это был очень тревожный звонок! На него надо было реагировать и чем быстрее, тем лучше. В противном случае, можно было остаться, что называется, у разбитого корыта. Что-что, а прибирать к рукам азиатских властителей англичане умели.
* * *В 1825 году генерал-губернатор Оренбурга князь Григорий Волконский (отец декабриста Сергея Волконского) добился учреждения Оренбургской пограничной комиссии. И пусть читателя не вводит в заблуждение ее название. Комиссия вовсе не занималась мелкими приграничными конфликтами и ловлей казахов-контрабандистов. С этим успешно справлялись местные казаки. Задачи перед новым учреждением стояли куда более серьезные. Комиссия, которая являлась штатным подразделением Министерства иностранных дел, должна была заниматься как дипломатической, так и разведывательной деятельностью в огромном регионе Среднего Востока и Центральной Азии.
На должность начальника экспедиции был назначен участник миссии Негри 38-летний Григорий Генс, получивший к тому времени полковничьи эполеты. Выбор Волконского был на редкость удачным, так как Генс был человеком во всех отношениях незаурядным. Имея опыт участия в миссии Негри, он знал, как следует поставить дело. Генс был выдающимся дипломатом и не менее выдающимся разведчиком. А в свободное время занимался архитектурой, оставив о себе добрую память в Оренбурге и в этом качестве.
Полковник (а затем и генерал-майор) Генс руководил пограничной миссией более двадцати лет, раскинув огромную разведывательную сеть в казахских степях и среднеазиатских ханствах. Все это время Генс вел дневниковые записи, занося на страницы огромных рукописных книг рассказы караван-башей из Бухары и Коканда, купцов, пришедших из Индии и Тибета, выкупленных в Хиве русских пленных, путешественников и дипломатов, вернувшихся из глубин Азии. Все эти сведения он суммировал и анализировал. К моменту смерти Генса в 1846 году его архив составил многие сотни рукописей, папок и портфелей.