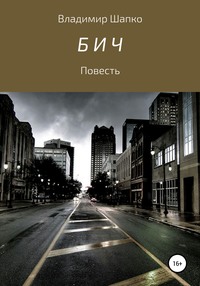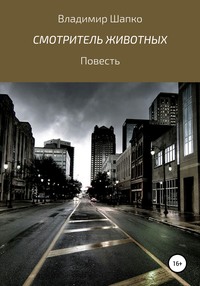Грузок, кто такие Горка и Липка
На улице всё так же стоял морозный туман. Мутное солнце дымилось в облачке будто плавка в чёрном ковше. На деревьях, как в недвижном лесу, повис словно остановленный кем-то снег.
Последние слова Приленской обижали, жгли. Думала о подруге нехорошо. На чужом горбу хочет въехать в рай. Господи, ну что ещё говорить Горке, чтобы сдвинулось что-то с этим чёртовым киоском!
Машины у светофора теснились, густо сопели морозом. Показалось впереди несуразное здание автовокзала. В виде каких-то бетонных катакомб провалившееся ниже улицы словно бы в овраг.
Остановившись, стояла над ним и всё думала об одном и том же. С выбившимися из-под платка волосами, заиндевевшая и потусторонняя, как седой медальон.
На здании щёлкали не выключенные с ночи буквы: Авт… вокзл… Авт… вокзл…
По какому-то наитию торопливо стала спускаться по широкой бетонной лестнице к зданию.
Походила по привокзальной площади вдоль очередей с багажом. Точно пересчитывала и их, и автобусы, к которым они стояли.
Зашла в вокзал.
Через несколько минут Олимпиада выбежала из автовокзала. На трамвае помчалась к Приленской обратно. В подвальную комнату ворвалась, запыхавшись, как гонец с радостной вестью:
– Надя! Союзпечати на автовокзале больше нет. Понимаешь? Киоск исчез. Там остался только сувенирный со всякой чепухой. Понимаешь, что это значит?..
Хмурая Приленская сразу сказала:
– Полякову, наверное, перевели куда-то. В другое место. А может, и просто сократили. Невыгодно там стало держать киоск, скорей всего. В Союзпечати тоже начали деньги считать.
– Ну а если мне там попробовать? Пока у нас нет киоска? Одной? А, Надя? – с надеждой смотрела на подругу Олимпиада.
Приленская всё хмурилась.
– Вряд ли там что-нибудь получится. Люди там не те. Село, беднота. Поэтому Союзпечать и ушла.
И опять как в споре недавнем задолбила:
– Свой нам надо киоск пробивать. Свой, Липа! Не там ты бегаешь, не там ищешь!
Но Олимпиада, казалось, уже не слышала слов подруги. Олимпиада снова, как и с железной дорогой было, – загорелась.
На другой день с газетами на столике она стояла в здании автовокзала прямо у входных дверей, потихоньку приплясывая, постукивая зимними ботинками. С улицы, словно из бани в предбанник, шибал пар. Две двери хлопались постоянно. Люди шли и шли. Однако мимо газет. Никто не останавливался возле столика. Олимпиада всё постукивала ботинками, как кувалдочками с черными рукоятями. Не теряла надежды. Надо завтра только тёплые брюки надеть.
Многие проходили сразу к фанерным гнутым рядам, садились, пододвигали к ногам нехитрый свой багаж: сумку ли, чемодан или рюкзак. Маленькие дети не бегали по залу – тепло одетые, этакими тихими кулёчками сидели рядом с родителями, освободившись только от варежек на резинках.
Каждые час-два в зал выходила уборщица с ведром и тряпкой на длинной палке. Тощая казашка лет пятидесяти. С маленьким серым лицом, похожая на алюминиевую поварёшку. Начинала возить тряпку меж фанерных рядов. С готовностью китайских болванчиков люди задирали ножки и поджимали ручки. Уборщица возила тряпкой, казалось, не видела никого.
Часов в пять, в очередной её выход с ведром и тряпкой, Олимпиада решилась подойти к ней.
Казашка, казалось, не понимала, о чём её просит эта русская женщина в обдёрганной заячьей дохе. Алюминиевое лицо её, как Коран письменами, было испещрено мельчайшими морщинками.
– …Я вам буду немного платить. Понимаете? Буду платить! – как глухонемой втолковывала Олимпиада, показывая на свой столик у выхода из вокзала.
– Не кричите. Я не глухая, – сказала вдруг казашка на чистейшем русском языке. Запустила тряпку на палке в ведро с грязной водой: – Оставляйте. И столик, и газеты. Но учтите, я работаю только до шести.
Олимпиада с радостью побежала к газетам, чтобы быстренько собрать всё, пока казашка домывает пол, а уж потом пойти за ней в служебную дверь, за которой у неё наверняка есть свой маленький закуток.
Селяне, конечно, ничего у Олимпиады не покупали, а вот некоторые городские жители любили по старой привычке развернуть свежую газету, ожидая своего автобуса, к примеру, на Красноярск или Новосибирск. Да и в дорогу брали с собой что-нибудь. Или почитать, или поломать голову над кроссвордами.
Олимпиада вечерами стала приносить домой немного денег. До киоска хоть какое-то подспорье, объясняла она свои походы на автовокзал хмурящемуся Туголукову. «Не сердись, Гора. Тут недалеко ходить. Да и одеваюсь я тепло. А самое главное, никто не знает, что там закрылся киоск «Союзпечати»».
Однако лафа закончилась через неделю. В понедельник, едва Олимпиада на привычном месте (у входа) разложила свои газеты, как с клубами мороза вошла в вокзал конкурентка Кунакова.
В красивом зимнем пальто, в песцовой шапке, с раскрашенным мёртвым своим лицом начала расставлять газетный столик. Опять напротив…
– Извини, Липа. У «Колоса», сама знаешь, холодно сейчас стоять, а в трамваях пальто уже всё ободрали.
Для наглядности она пальчиками взбодрила пушистый песцовый воротник. Затем продолжила дальше выкладывать на столик газеты из сумки.
Олимпиада готова была взвыть от досады. Кинуться на конкурентку.
– Ну чего ты вяжешься ко мне? Выследила, да? Мало тебе места в городе? (Конкурентка всё раскладывала газеты.) Встань хотя бы подальше. Вон там… – Олимпиада показала в сторону небольшого железного рядка с автоматическими ячейками для багажа.
Кунакова посмотрела.
– Нет, Липа, нам тут будет лучше. Тут рядом дверь. Люди постоянно выходят и заходят. Мимо нас не пройдут…
Олимпиада затосковала. Убить что ли эту накрашенную куклу?
Простояли весь день отчуждённо. Как будто не знали друг дружку. У Кунаковой изредка покупали. У Олимпиады – нет. Как у мужика, у неё белели скулы, катались желваки: у, прохиндейка! Олимпиада видела, что покупатели выбирают Кунакову из-за молодости её. Из-за свежести её лица. Из-за того, что она хорошо одета. И сама Олимпиада в задрипанной своей дошке и деревенском платке жестоко ей проигрывает… Но не хотела себе в этом признаться. У, нахальная!
Дома вечером, едва переступив порог, она сразу заплакала: «Господи, Горка, ведь я была готова её сегодня убить! Понимаешь! Убить! («Где? Кого? За что?» – метался Туголуков, раздевал упавшую на стул женщину.) Ведь я кралась за ней! Я хотела догнать её и сбросить с моста! Понимаешь! Хотела! Вот уже до чего я дошла!» Слёзы текли по щекам женщины горячие, красные. Женщина, словно не перенося их жара, освобождаясь от них, зажмуривалась, мотала головой.
– Успокойся, дорогая, успокойся! – Туголуков, как больную, повёл её в комнату, к тахте. – Приляг, дорогая, приляг.
Не раздеваясь до конца, в зимних тёплых штанах Олимпиада свалилась на бок на тахту, подтянула коленки к животу. Её трясло как при простуде, зубы стучали, а она всё говорила и говорила как в бреду: «Казашка. Горка! С высшим образованием. Филолог. Моет полы в автовокзале. Господи, Горка, что творится! Мы гибнем, просто гибнем. Таня Тысячная сидит без работы. Платить нам за квартиру не может. Пенсий мы с тобой уже четвертый месяц не видим. Денег на еду нет. Я уже таскаю из отложенных на киоск. А проклятый киоск и не светит. О, Господи!..»
Туголуков суетился, накрывал, подтыкал ей одеяло, но она… вдруг уснула. Внезапно, обморочно. Как бывает у женщин после истерик. Туголуков смотрел на свернувшуюся и всхлипывающую во сне женщину.
И опять как последний паразит, со страхом ощущал только одно, что жизнь его с этой крупной женщиной, свернувшейся сейчас под одеялом… зыбка, ненадёжна. Что не выдержит она всех теперешних бед, всех испытаний, что погибнет. А вместе с ней сразу погибнет и он, Туголуков.
Он принялся снова накрывать её одеялом, другим, более тёплым. Подтыкал опять со всех сторон.
Ночью он любил её. Как прятался в ней. Как спасался.
21. Гостиница в центре города
Поздно вечером «хонда» подлетела к площадке для машин возле гостиницы. Коротко игранула сигналом. В одном пиджаке на мороз выскочил из будки сторож Клямкин, отомкнул на заградительном тросу замок и вытянулся как солдат, пропуская машину на её персональное место.
– Здравствуйте, Виктор Степанович! – Клямкин кланялся Фантызину, запахивая пиджачок с уже поднятым воротком. Седая голова его в полутьме казалась оловянной. Преданно не уходил, докладывал, кто сегодня приезжал в гостиницу. Кто ещё там до сих пор, а кто уже уехал. Фантызин внимательно слушал. Песцовая шапка его была огромна. Лица в ней почти не было видно.
– …Алевтина Егоровна ещё у себя, – мерз, не унимался Клямкин. – Всё работает, бедная. Ждёт, наверное, вас, Виктор Степанович, – подхалимство к хозяевам, и очным, и заочным, так и пёрло из Клямкина. Фантызин (хозяин очный) дал ему купюру.
Никак не привыкнув к купленной гостинице, стоял у подножия её и смотрел, сунув руки в карманы дублёнки и покачиваясь с пятки на носок. В сердце его, как говорят у казахов, играли радуги.
Высоченное здание стояло сейчас словно тихий мерцающий вечер. Однако длинное крыло его, где расположились ресторан и казино, – в ночи сияло: над казино разноцветно играла сдёрнутая у Лас-Вегаса вывеска – STAVER.
Луна как будто охраняла здание. Сидела в облаке. Как улыбающаяся мамка в красной пене ванной. И это в такой мороз! И-ииихх!
Фантызин взбежал по ступенькам.
Пушистую огромную шапку Виктора Степановича гардеробщик понёс с восторгом, на вытянутых руках. Как стужу. Уплыла следом разом взятая на плечики и дублёнка Виктора Степановича. (В отличие от тщедушного Клямкина, этот подхалим был крупным, глыбастым, можно сказать, племенным. После исполненного номера упёр руки в стойку как сваи.)
Фантызин посмотрел на себя в зеркале, поправил бабочку на белой груди, нежно мазнул рукой по лысинке.
Проходя к сквозящей бетонной лестнице, поздоровался с включённой, матово светящейся Дудиной, администратором. На втором этаже горничные с пылесосами застенчиво стаивали на стороны.
У Алевтины Егоровны находилась бухгалтер Мужчиль. Хмурая, одетая в чёрный короткий мешок, из которого торчали тонкие бледные руки, тонкие ноги в чулках и круглое бескровное лицо. Сняв со стола подписанную ведомость, Мужчиль пошла к двери. От Фантызина метнулась в сторону, как от чёрного кота. Фантызин скривился. Однако взял себя в руки, подлетел к столу:
– Добрый вечер, Алевтина Егоровна!
Хотел поцеловать ручку, но видя, что женщина сердито прячет её за спину, не решился.
– Как много вы работаете! Алевтина Егоровна! – заливался соловьем. – Разве можно так не щадить себя!..
Женщина хмурилась. Коровьи, в линяющих пятнах губы её, точно сами по себе жевали. Прервала, наконец, соловья:
– Хватит! Довольно!.. Ты вот что скажи, друг разлюбезный: почему ты крысятничать начал? – подняла тяжёлый взгляд на компаньона.
– Да вы что, Алевтина Егоровна!
– На, смотри! – Пенкина двинула бумагу. – По твоему стриптиз-бару за этот месяц… Галина посчитала. (Мужчиль.)
Фантызин впился в цифры. С ужасом мотал головой, «не веря».
– Не может быть, Алевтина Егоровна! Тут явная ошибка. Вот-вот – смотрите! Вот здесь!
Пенкина отстраняла лезущую бумагу.
– Довольно, я сказала!.. Ты что, хочешь чтобы Семён Никандрович об этом узнал? Смотри. Полетишь – рук-ног не соберёшь.
Женщина поднялась, начала убирать всё в ящики стола. Фантызин метался, говорил без остановки, честные выкатывал глаза.
Пенкина достала из-под папки в ящике пачку денег в банковской упаковке.
– На. Утром завезёшь Семёну Никандровичу.
Спуститься по лестнице со второго этажа на первый Алевтина Егоровна не захотела. Фантызин давнул кнопку лифта. В ящике ухнули на первый этаж, жёстко ударившись. Да так, что Пенкина оказалась в объятьях. Вывалились в вестибюль тесно слившись. Пенкина ругалась, кричала на подбежавшую Дудину:
– Чтобы завтра же лифт наладили! Слышишь! (Дудина кивала, деликатно отступала к стойке, кланялась.)
Муж спокойно стоял возле гардероба, спокойно смотрел, как Фантызин и гардеробщик обряжают его жену в богатую шубу из норки. Спокойно жевал жвачку. Поигрывал ключами от машины.
– Подожди, Коля, – сказала ему жена. Отвела Фантызина в сторону, тихо давала указания: – Сегодня после двенадцати будет Талибергенов и его компания. Любители русского мясца. После казино полезут в твой стриптиз-бар. Скажи Кузнецовой, чтобы накрыла там в отдельном кабинете. Приведёшь к ним Машу и Розу. В общем, всё организуй. Но к самой Кузнецовой в ресторан – ни ногой! Слышишь! У себя подъедай. В стриптиз-баре. Или у друга своего, наркомана. В «Тахами». Понял? – женщина вдруг прищурилась: – Вообще, Фантызин, ты – больной?..
– Больной, Алевтина Егоровна, больной. Ха-ха-ха! – с готовностью закатился лысый мужичонка. Прямо умрёт сейчас от смеху.
Женщина смотрела. Крупное коровье лицо её брезгливо морщилось…
…При делёжке сфер влияния в купленной гостинице Фантызину достался… буфет. Сама Пенкина села в гостиничную коробку, её двоюродная сестра Кузнецова в ресторан, а Фантызин оказался в буфете. На первом этаже. Это несказанно его обидело. Он даже хотел пожаловаться Семёну Никандровичу. Тетерятникову. Однако Семён Никандрович ни разу не пришёл в гостиницу. Он словно бы даже не участвовал в покупке её. В гостинице он только как бы негласно присутствовал. В кабинете Пенкиной. Спрятавшись за портрет Елбасы над её головой. Изредка только выглядывая из-за него и подмигивая. Эдаким ангелом-хранителем.
Несколько дней Фантызин сумрачно ходил по буфету, наблюдая как командировочные любовно выскребают ложечками из стаканов сметану. И его осенило: бар! Притом бар со стриптизом! Стриптиз-бар! Первый, единственный в городе! Фантызин бросился на второй этаж, к Алевтине Егоровне…
Всё это было два месяца назад. Сейчас, проводив Алевтину Егоровну с мужем до выхода, пожелав им спокойной ночи, Виктор Степанович вернулся к зеркалу, ещё раз тщательно оглядел всего себя. Одёрнул строгий чёрный пиджак. Выдвинул из рукавов пиджака белейшие обшлага рубашки, украшенные красивыми запонками. Поправил ещё раз бабочку. Только после этого стал спускаться по лестнице к стеклянной, занавешенной изнутри двери. Лампасовый Михалыч вскочил со стула, распахнул её перед ним.
Стриптиз-бар гудел вовсю. Довольно вместительный, как всегда, был битком. (Не то что у Кузнецовой в ресторане!) Фантызин с гордостью оглядывал просторную сцену и богатейший, слезящийся стеклом алтарь у левой стены зала с самодовольным, болтающим шейкерами барменом. И всё это было организовано им, Фантызиным.
Он даже приглашал из России модного дизайнера. (Денег заплатил уйму!) И зачуханный зал буфета преобразился.
Яркий свет дизайнером был оставлен только над сценой, для вихляющихся на шестах девок. Сам зал, задрапировав стены материалом, он интимно притемнил. На всех столиках теперь включены были лампы под гофрированными колпаками. Лица зрителей горели от этого карминно стойко, были довольными, приобщёнными. И к спиртному на столе, и к представлению на сцене. Получая заказы, официантки уплывали и таяли как тени. Даже шторы на окнах висели теперь по-новому. Как вислопузые монахи, подглядывающие в вертеп. Хорошо поработал дизайнер. Просто отлично!
Шесты для стриптизёрш торчали до потолка. Да бери выше – до неба! Две равнодушные девки на них сейчас по-всякому выламывались. Одна как струбцина тощая, другая с грудью и бёдрами тяжёлыми. Их взбадривали шлягером из угла сцены три лабуха. Самодовольный клавишник стоял за клавишными как за станком ткач. Второй, длинный, да еще с бесконечной басовой гитарой на сторону – смахивал на мотающийся под ветром семафор. И третий, саксофонист, постоянно подбегал к стриптизёршам, пригибался и угрожающе болтал им саксофоном.
Фантызин был доволен. Взял бокал с ближайшего стола. Хорошо отпил. «Жажда. Извините». Поставил на место. У посетителя глаза полезли на лоб. Толкнул соседа. Но тот во все глаза смотрел на сцену. Где одна из стриптизёрш в это время повернулась спиной и выгнула себя. В эдакую соблазнительнейшую коряжку. Правда, ненадолго. Эх-х.
Часа в два ночи явился большой, как верблюд, Талибергенов с тремя собратьями помельче. После выигрыша в казино, расположенный, довольный. Хорошо похлопался с Фантызиным по-национальному. С двух сторон. (Фантызин икал.) Потом четыре казаха постояли какое-то время, любуясь стриптизёршами. И Фантызин провёл их в отдельный кабинет, где Кузнецова самолично уже разлаживала на столе чистую скатерть. «Ате жан! (Очень хорошо.) Ате жан!» – потирали руки гости.
Через час Фантызин привёл Машу и Розу. Перед тем как запустить в кабинет, дал Маше ключ от 915-го номера. «Позвонишь мне вниз, когда уйдут. Давайте, девочки!» Фантызин открыл дверь. По-деловому пританцовывая, вихляясь, Маша и Роза пошли на сцену. Их встретил восторженный рёв зрительного зала.
Под утро в 915-м Фантызин быстро подъедал. Растерзанная еда была на тарелках повсюду. На низком столике, на тумбочке, на подоконнике. Давился, запивал всё марочным вином.
Маша, опершись на локти, ждала на кровати. В своей школьной форме дылды-ученицы. Курила, стряхивая пепел в блюдечко.
Фантызин подбежал.
Двумя пальцами, средним и указательным, Маша помотала ему уже распакованным ею резиновым атрибутом. Как большой монетой. Как американским долларом.
Через минуту Маша вдавила папиросу в блюдечко, опустила одну ногу на пол, поднялась с кровати. Вернула на место сбитый пояс для чулок. Оправила платьице, потом белый в кружевах фартук.
Фантызин лежал растерзанный, зажмурившийся. Маша смотрела. «Встань, закройся!» Фантызин не шевельнулся. Маша бросила ключ на столик, выключила свет и вышла из номера.
Фантызина мучил кошмар. В кошмаре том Тетерятников со своими удивительными улыбчивыми бровями (бровями как сладкие сабли) – был неузнаваем за своим столом, страшен. Брови казались на нём чужими, наклеенными на его разгневанное лицо!
– Ты когда перестанешь крысятничать, гадёныш?! Когда?! Мало ты имеешь, гад?! Мало?!..
Фантызин захлёбывался слезами в лифте на груди у Алевтины Егоровны. «За что он меня так, за что?!» Алевтина по-матерински гладила его трясущуюся лысую голову. «Он суровый, суровый! Стукнет кулаком по столу – и прощайте, гуси-лебеди!» Лифт жёстко ударился о первый этаж… Потом Фантызин гонялся за Алевтиной Егоровной. Алевтина Егоровна взмахивала ожемчуженными крыльями, высоко подлетала, а он подпрыгивал, хватался за её ногу и падал на пол…
Проснулся без пятнадцати девять. Торопливо приводил себя в порядок. Быстро умывался в ванночке при номере. За спиной бесшумно ходили, убирали разгром тихие горничные.
В вестибюле уже распоряжалась, строила всех сменщица Дудиной Стеклова. С взбитой причёской, как рыскающая судейская яхта со вздутым парусом.
– Привет! – крикнул ей Фантызин, скатываясь по ступенькам к выходу, теряя и подхватывая свою громаднейшую шапку и дублёнку. – До вечера! – мотнулись на прощанье стеклянные две створки двери.
А в вестибюль уже тянулись командировочные. Все с чемоданами, будто с уставшими своими хвостами.
Под высоким портретом Елбасы, за столом, писал мужчина с полёгшими, как осенняя сурепка, волосами на голове.
Фантызин положил на стекло стола пачку денег. Двумя пальцами вкусно подвинул.
Как Наполеон не прерывая письма левой рукой, правой Тетерятников повёл по стеклу пачку. И вёл до тех пор, пока она сама не свалилась в ящик стола.
– Что передать Алевтине Егоровне, Семён Никандрович? – причастно склонившись, тихо спросил Фантызин.
– Ничего, – не поднял глаз начальник, продолжая писать.
Он был очень серьёзен за столом. А удивительные, сладкие брови его сейчас опять улыбались.
Фантызин залюбовался.
– Ну, чего стал?.. – поднял глаза Тетерятников.
Фантызин на цыпочках пошёл к двери.
В приёмной к нему бросился Болеслав Бувайло. С лицом растерянной вспотевшей рынды:
– Ну, как он сегодня? Грузок! Скажи!
– Работает, – серьёзно сказал Фантызин.
22. Киоск
11-го апреля, в понедельник, Олимпиада и Надежда Приленская часов с десяти маялись на автобусной остановке напротив Дворца спорта. Был с ними и сын Надежды, маленький Коля. Ходили все трое вдоль останавливающихся автобусов, сторонились бегающих, мгновенно дуреющих пассажиров, которые с сумками и сетками судорожно залезали в отходящий, – последний свой автобус. Апрельский день был по-весеннему свеж, с ветерком, но предобеденное солнце уже припекало.
Коля всё время убегал к началу улицы. К началу Коммунистической. Высматривал меж приближающихся автобусов и машин большеколёсный трактор «Кировец». К примеру, серии 9000, с прицепом, на котором наверняка и приедет киоск.
Возвращался к матери и тёте Липе:
– Пока не видно.
Чуть погодя снова убегал.
Женщины уже сидели в тени крытой остановки.
– Неужели с сегодняшнего дня у нас может всё измениться? – Голос Олимпиады дрожал, она сдерживала слёзы. – А, Надя?
– Увидим, – верная себе, сдержанно ответила Приленская.
Коля прибежал:
– Мама, тётя Липа! Едут! «КамАЗ» 5320! Седельный тягач с открытым полуприцепом! Полуприцеп 12 метров! – звонко выдавал свои знания техники пятиклассник Коля Приленский. – На прицепе – киоск!
Женщины сорвались, побежали за Колей, чуть не сшибая ждущих автобусы пассажиров.
В чумазой кабине Олимпиада совсем не узнала своего Горку. Каким-то бледным курчонком в кепке болтался он между толстым казахом-шофёром и усатым Курочицким. «Камаз» проехал мимо женщин и мальчишки, обогнул все автобусы на остановке, перевалил себя на тротуар и, рыча, выпуская много дыма, потащил за собой прицеп с высокими бортами, за которыми и покачивался киоск.
Женщины и мальчишка подбежали к остановившейся жарко дышащей железной громадине. Спрыгнул на тротуар Курочицкий, поймал Георгия Ивановича, у которого слетела кепка. Георгий Иванович нагибался, царапая в стороне ногой, пытаясь поднять кепку, но Олимпиада уже схватила, надела ему на голову.
Как по команде все встали вдоль высокого борта, не спуская глаз с киоска. Коля хотел запрыгнуть на борт, но мама не дала.
– Вот, дождались, – вытирался платком Георгий Иванович. – Липа! Надя! Смотрите! Любуйтесь! Красавец!
Киоск и в самом деле был хорош. Набранный из лиственной вагонки благородного, светло-коричневого цвета. Однако за высокими бортами прицепа казался надменным и даже недоступным.
И как же снимать его оттуда? Кран, сразу пояснил Курочицкий, автокран. Сейчас придёт. Коля тут же полетел на наблюдательный пункт.
Приленская уже ходила и определяла – куда ставить. Сверялась с планом в папке. К ней присоединилась Олимпиада. И они сразу заспорили. В плане киоск должен стоять ровно в пятидесяти трёх метрах от серебрянского моста и десяти от конца остановки. Да кто же это будет намерять, Надя? – горячилась Олимпиада. Еще как намерят! – парировала Надежда.
Курочицкий кивнул на женщин:
– Как они будут работать вместе, Гора?
– Да пусть их! – беспечно рассмеялся Туголуков. – Бабы, Ваня!
Прибежал Коля. Запыхался:
– Идёт! Автокран «Челябинец»! КС-45721! На шасси «КамАЗ»! Дядя Ваня, дядя Гора!
Мужчины удивились знаниям мальчишки. Потрепали его по голове.
Громаднейшая длинная, высокая железная дура перевалилась на тротуар, подъехала. Пока метались по площадке, спорили (уже все), куда ставить киоск, такелажники быстро подцепили, крановщик подёргал в кабинке рычажки, и киоск поплыл в небо, поворачиваясь всеми сторонами. Уравновесившись, опустился и мягко встал на место. Как будто всю жизнь здесь стоял – недалеко от остановки, напротив Дворца спорта.
Курочицкий расплачивался с шоферами, а остальные опять немо стояли перед киоском. Уже вроде бы другим киоском – маленьким, стоящим на круглых двух полозьях (для зимы), закрытым глухой ставней, как будто слепым.
Машины уехали. Курочицкий открыл дверь киоска длинным ключом. Все почему-то не решались лезть в тёмное нутро. Курочицкий один поколдовал в киоске, выскочил наружу, снял ставню.
– Прошу!
Через полчаса, как после необычайно понравившегося всем фильма, возбуждённо шли по мосту через Серебрянку. Две женщины, двое мужчин и мальчишка. Не умолкая, обсуждали «фильм». Запах! Какой запах внутри киоска! А полки! Целых восемь штук! Столик! Какие красивые стены! Потолок! Нужно покрасить всё! Ни в коем случае! Оставим природный цвет! Светло-коричневый! Вагонка лиственная! Никогда не сгниёт! Ни сырости, ни плесени! Ни грибка не будет! Только покрыть немного лачком! И внутри, и снаружи!..
Шли на Краснооктябрьскую, в дом Туголукова и Липы. Шли отметить радостное событие.
По мосту ползли машины. Словно вне чада их, на противоположном берегу висела апрельская березка – как зеленоватый разреженный воздух, оставленный кем-то на бугорке.