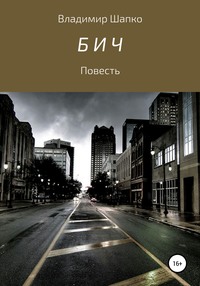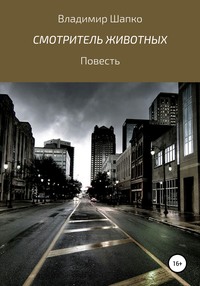Грузок, кто такие Горка и Липка
Библиотеку купил Талибергенов. Как будто арестовал её – два милиционера полчаса сносили тома к стоящему во дворе милицейскому уазику. Олимпиада металась, стелила всякие материи и половики, чтобы книгам было удобней ехать. Талибергенов хмуро терпел. Тяжелый, полез в кабину с шофером, взболтнув весь уазик. Милиционеры заскочили сзади, захлопнулись. Уазик поехал.
Туголуков стоял в комнате отца, смотрел на пустые полки. Как красные рассыпанные письмена, как воспоминание о будущем валялись по всему столу советские десятки. Прибежавшая Олимпиада начала быстро собирать их, чтобы заново пересчитать.
– Ну, чего стал? Давай тоже считай!..
– Как? – спросил супруг. – Одной рукой?..
Утрами на мёртвых рассветах, сидя на тахте, Георгий Иванович изучал свою правую парализованную ногу, точно протез, набитый ватой. Прикидывал, как добиться хоть какой-то твёрдости в ней, подвижности.
Начинал сгибаться и энергично растирать ногу левой рукой. Старался особо не сопеть, чтобы не разбудить Липу. Правая рука во время этих манипуляций болталась всегдашней ластой. И её также сильно растирал. С некоторых пор стал ощущать и в ноге, и в руке какие-то покалывания, мурашки. Это радовало его – с новой силой он принимался за ногу. Да так, что начинала ворочаться и ворчать Олимпиада. «Ну сроду – ни свет ни заря!»
В парке уже уверенней загребал больной ногой. Весь перекошенный и острый, как поражённый кубизмом. И ластой мог лихо хлопнуть себя по бедру. Иногда даже несколько раз подряд. На немалое удивление и даже испуг прохожих. Смеясь, останавливался. Задрав голову, любовался взблёскивающими на солнце бесконечно-радужными осенними паутинами.
На скамейке довольно разборчиво говорил Ивану Ивановичу Курочицкому. Просил помочь заказать на мебельном комбинате киоск. Олимпиаде, знаешь ли, надо. Да и сам я, наверное, смогу продавать. Поможешь, Ваня?
Курочицкий, видя, что Георгий Иванович поправляется, что скоро станет таким же, каким был – с радостью поддерживал: «Какой разговор, Гора! Сделаем! Всё сделаем!»
После закрытия детских садов весь парк теперь напоминал сказочный детский рай. Везде бегали весёлые ребятишки и сидели в плащах, с вытянутыми ногами их свободные теперь от работы мамы. Громадная белая туча висела над ними как спустившийся Бог.
Побежала, подняла с земли упавшего балашку в комбинезончике мать. Отряхивала его от прилипших листьев, от песка. На мотающемся лице молодой казашки были видны только злые насурьмлённые, как чёрные цветки, глаза. Балашка качался в руках матери. Но не ревел. Как космонавт. Снова побежал.
Казашка вернулась на свою скамью, снова засунула руки в карманы плаща. Смотрела в никуда. С тонкой шейкой и скулами инопланетянки.
– Эх, только и вспомнить теперь золотое застойное время!
Курочицкой начинил мундштук сигареткой. Молча затягивался с откляченной нижней губой. Туголуков смотрел на его заточенные усы. На ум приходили кавалерийские атаки, глубокие рейды по тылам врага. Благодарно тронул его за колено.
Смотрели на осенние остывающие клёны, на жёлтые утихшие птичники тополей. С земли пахло павшим пряным листом.
– Столярова вернулась, – вдруг сказал Курочицкий, затянувшись и выпустив барашек дыма.
Туголуков сразу опустил голову.
– …Помнишь её? Помнишь, как ездили с ней и Сычёвой на Алаколь? Сейчас её не узнаешь…
Курочицкий начал подробно рассказывать.
– Я видел её, – прервал его Туголуков. Поднялся. Стал прощаться. Отворачивал лицо.
Пошёл. Наступал на тени от листвы деревьев как на пятна сажи.
– Так я всё узнаю на мебельном? Гора! – крикнул вслед несколько обескураженный Курочицкий.
Туголуков как будто не услышал. Уходил, всё наступая на пятна.
…Несмотря на предупреждения Олимпиады, в тот день Георгий Иванович вышёл из дому в сильный ветер. Пирамидальный жёлтый тополь раскачивался, свистел как балбес. Туголуков с плащом напоминал сёрфингиста с косым парусом. Его тащило то в одну сторону, то уже в другую. Кое-как дорулил до парка. Здесь было тише.
Сидел на скамье под мотающимися кронами деревьев, осыпаемый сверху жёлтыми листьями. Лишь три голых дуба в середине парка почти не поддавались ветру. Подобно узловатым старикам, стояли на земле крепко.
По аллее шла женщина с балетной головкой черепахи, изрезанной длинными морщинами. У Туголукова упало сердце, он сразу узнал её. Это была Надежда Столярова. Надя. Работавшая когда-то во Дворце культуры комбината. Он тут же вспомнил, как любил её первый раз в высокой костюмерной дворца под висящими балами камзолов, стеклярусных платьев и ажурных пелерин. Как выскользнул потом оттуда и, будто «подвиг разведчика», смешался с настоящим, тесно танцующим балом, танцующим под бубнящий духовой оркестр с хоров дворца.
А потом начался месяц угара. Туголуков тогда уже два года был вдовцом. У неё муж – два года писал диссертацию. Побывав у неё однажды в доме (на дне её рождения), при знакомстве Туголуков даже подержал руку этого мужа. Вроде влажной красной сёмги. (Глаза лысоватого блондина в очках были вежливы и внимательны.) Туголуков дня уже не мог прожить без любимой, уговаривал её порвать с мужем и уйти к нему, Туголукову. Но блондин с красными руками всё же перевесил, и она уехала с ним в Новосибирск.
Георгий Иванович печалился, тосковал. Долго помнил её гладкую балетную головку, её зеленоватые большие глаза.
Туголуков смотрел вслед удаляющейся женщине.
Была б картина, если бы он окликнул её. Встреча через много лет. Вся в морщинах женщина и осклабленный послеинсультный крокодил. У которого верхнюю губу обратно на зубы невозможно натянуть. Неужели это ты, Гора? А это ты? Надя! Не может быть!..
Туголуков раньше времени покандыбал домой. На душе было гаденько, нехорошо.
– Говорила не ходи, – открыла дверь Олимпиада. – Зачем попёрся в такой ветер?
Как на виновницу всего, Туголуков дико глянул на жену и, не снимая плаща, сразу прошёл на балкон. Стоял как всегда – вцепившись одной рукой в перила.
Господи, ну почему не окликнул, не остановил?
Заветренный закат был как красный пал в степи. Зяблые клёновые ветки болтались совсем рядом, прямо под балконом.
18. Новые толстопятые центурионы
Когда Витя Фантызин оставался ночевать, Голяшина Тоня всегда устраивала ему праздник для души. Под включённой богатой люстрой, на постели, застланной свежей простынею, начинала очень медленно поднимать для него очень белое и большое свое богатство. У Фантызина глаза готовы были выскочить от восторга. Однако как всегда управился моментально. И свернулся калачиком как бы у дымящегося ещё комелька.
Голяшина Антонина не верила, что так всё быстро закончилось, ждала. С распущенными своими губами. Всё так же на коленях. Когда в районе левой пятки начинали раздаваться сладкие храпотки, опять же очень медленно валила себя на бок. Лысая зажмурившаяся головёнка оказывалась придавленной тяжёлой её ногой. Медленно убирала ногу. Смотрела на свернувшегося мужичонку как на голенькое тощенькое чудо болотное.
Однако Фантызин просыпался быстро. Голяшина начинала было опять поднимать богатство, но любовник, прыгнув к тумбочке, к телефону, уже набирал номер. Заветный номерок. В трубке шли и шли длинные гудки. Неужели сменили номер, гады? Или переехали? «У тебя есть телефонная книга?» У Голяшиной телефонной книги не было. Тогда бросал трубку на аппарат, бросал себя к белому телу и тут же засыпал, кинув руку и ногу на него. Этаким коротеньким пионерским прыжком через планку высоты.
Голяшина медленно тянулась к стене и выключала праздник.
Сегодня Кланечка с утра побежала, тюкнула в сарае курицу. (Безголовая чёрная курица прыгала по двору, как вахтовая нефтяная вышка. Остальные куры бегали, перемазанные кровью, отмечали трудовую победу.)
Затем, окатив кипятком, ощипала курицу. Разделала на кусочки, ровненько выложила в уже заведённое тесто. Поставила в духовку.
Газовый баллон втихаря подпускал. Что тебе оголец в темноте на сеансе. Перекрыла его. Побежала, распахнула оба окна. Снова включила, зажгла духовку. Надо Витеньке сказать, чтобы баллон сменил.
Летала по дому, прибиралась. Напевала любимую:
В лунном сия-ании снег серебри-ится,
Вдоль по доро-оге троечка мчи-ится…
Потом Кланечка прикладывала к коричневому выходному платьицу отглаженные свежие кружавчики. Как сельскую белую неземную свою лепоту. Пришпиливала её на плечи и загорбок. Любовалась собою в зеркале на комоде. (Ну чистый плюшевый мишка в кружавчиках!) Придвинувшись ближе, вырисовывала на губах помадой обострённо-остренькое сердечко-клеймецо. По незабытой моде 20-30-х годов. «Динь-динь-динь! Колокольчик звенит!» Сегодня у Витеньки день рождения, ему будет приятно. «Динь-динь-динь! О любви говорит».
Между тем Витенька в это время вроде бы даже забыл про свой день рождения – Витенька крался на «хонде» вдоль пятиэтажного дома Туголукова. Высматривал из кабины.
Балкон был пустой: ни парализованного коня, ни Липкиного белья на верёвках.
Тогда коротко протарзанил. Как кинул наверх живца. В окне кухни сразу захлопнулась форточка. А-а, спрятались! По капельке, по капельке, уважаемые! Дал по газам, полетел, победным сигналом терзая всю улицу Краснооктябрьскую.
В обед с горы посёлка Мирный спускался, неуклюже переваливаясь, «джип» Талибергенова. Снизу в посёлок Мирный стремилась «хонда» Фантызина. Встретились на одной большой дороге. Остановились напротив друг друга. Оба с музыкальными колотушками. Как два бомбилы.
Опустив стекла, – разговаривали. (Колотушки выключили.)
– …Туголуков Всемирку продал… – Талибергенов смотрел вперёд. С нацеленностью хмурого футбола. Ждущего на одиннадцатиметровой отметке.
– Зачем? – Фантызин тоже ждал длинной правой ноги. Только в другую сторону.
– Не знаю. Темнит что-то. Уезжать, наверное, намылился со своей цацей. В Россию, наверное.
Фантызин думал.
– Кто купил?
– Я… Ну, бывай!
Талибергенов покатился, снова врубив колотушки.
Фантызин не трогался с места, вцепившись в руль.
Во дворе Кланечки голодные куры с радостью забегали. Но он даже не взглянул на них, сразу пошёл к крыльцу. И сумку с халявной едой болтал забыто. Будто чужую!
Перепуганная Кланечка, прежде чем бежать за ним, устроила курам свалку сама, кинув жменьку корму, чтобы не потеряли навык, не разучились драться.
В доме за столом не узнавала своего Витеньку – глаза Витеньки были белыми. Как сквозняки. Он даже не видел – что ел, что подносил ко рту. Кусок курника, за ним сразу пирожное. Рука вдруг взяла кусок холодца, будто раздавленного ожерелья. Потом снова курник. Потом запечатал рот куском торта. Он ел как лунатик на крыше!
Кланечка теребила кружавчики на груди, красненькое сердечко на губах её уже кривилось, превращалось в плаксивую гузку.
– Витенька, что с тобой? Ведь день рождения твой сегодня, Витенька!..
Фантызин вздрогнул. С белой раскраской от торта на лице, как мумба-юмба. Непонимающе разглядывал пятерню, тоже всю измазанную белым кремом. Взял полотенце – вытер.
– И на щеках, на щеках, Витенька! – подсказывала Кланечка.
Вытер и на щеках. Только после этого сказал:
– Просто задумался немного, тётя Кланечка. Не волнуйся, всё в порядке.
Взялся крутить переключатель каналов телевизора.
– Где тут у тебя Россия, тётя Кланечка? На каком канале?
– А я не знаю, Витенька. Вот сюда щёлкну (Кланечка щёлкнула) – сериал и выскочит. (Сейчас его нету ещё.) А вот тут (Кланечка ещё раз щёлкнула) футбол всегда. Вон, смотри, смотри, уже бегают!
Однако Витенька морщился. Такой футбол он не признавал. Стадо баранов, бегающее по полю. Ему нравился американский футбол. В американских фильмах. Где плечистые уроды всё время сталкиваются. А потом падают монструозными мордами прямо в землю, подкидываясь. Вот это футбол, тётя Кланечка!
Дальше щёлкал переключателем. Наконец нашёл, что искал. И глаза его сразу загорелись. «Смотри, смотри, тетя Кланечка, что сейчас будет!»
А в телевизоре протестующая толпа, не дойдя квартала до Красной площади, остановилась – улица была перегорожена грузовиками и новыми толстопятыми центурионами, щиты которых стояли плотно, один к одному. Разделённые с ними двадцатью метрами пустоты, демонстранты начала колыхаться, шуметь: «Прочь с дороги! Пропустите нас! Не имеете права!»
Очень серьёзный тележурналист без головного убора, седой, ведущий репортаж на фоне этого противостояния, очень серьёзно объяснял происходящее телезрителям. С большим квадратным микрофоном в кулаке – как с увесистым дядей Сэмом. Иногда указывал им же, как кувалдочкой, на негодующую толпу.
Остановившаяся колонна смахивала на краснознамённую злую ярмарку. Летели крики: «Узурпаторы! Негодяи! Долой! Прочь с дороги! Мы вам покажем!»
Вдруг толстопятые со щитами на всех парусах помчались к толпе. Вломились в неё – и заработали. Летающие вкривь-вкось чёрные палки походили на торопливый плохой почерк. Ветераны отлетали от ударов щитов, опрокидывались. С медалями, как с зачищенной рыбьей чешуей, их оставляли корячиться на асфальте. А толпу гнали дальше, охаживая палками по спинам, по головам.
Перед бегущими людьми улицу спешно перегородили новыми грузовиками, превратив её в мышеловку. Толпа ломанулась в боковой переулок, но оттуда уже неслись на парусах другие центурионы со щитами и палками. Толпу выгнали обратно на Горького.
И началось!
– Смотри, смотри, тётя Кланечка! – как ненормальный кричал Фантызин. – Российская милицейская страда! Жатва! Молодец, Ельцин! Так их краснопузых! Так их краснокоричневых! Так их! так их! Смотри, смотри, как садят! По башкам! По башкам! Бей туголуковых!
Кланечка начала было приплясывать и хихикать для Витеньки, как во время драк кур во дворе, но глаза её уже в трусливую раскосость пошли, голосок задрожал:
– Ой, боюсь я, Витенька! Ой, боюсь! И у нас так будет! И к нам перекинется! Ой, бою-усь!
Телевизор вдруг разом выключился. Будто сгорел, или вырубили электричество. Витенька похлопал ящик сверху – ничего. Повертел переключатель – пусто. Кинулся к стене, щёлкнул – света нет. Воскликнул удивлённо:
– Смотри-ка, – вырубили. Чтоб мы не видели! А, тётя Кланечка?
А та всё причитала «ой, боюсь я, Витенька, ой, боюсь».
Однако Витенька сидел уже за столом. Витенька в нетерпении пододвигал к себе курник на блюде. Точно и не ел ничего десять минут назад.
– Не-ет, тётя Кланечка. Нас не тронут. Мы люди нужные новой власти. Мы ей только помогаем. А вот всяких краснопузых туголуковых пусть охаживает дубинками. Да каждый день чтоб. Уж мы-то с тобой посмеёмся над ними тогда, уж мы-то похохочем!..
Фантызин вернул себе оловянные глаза. Фантызин сгрызал курник по-волчьи. Казалось, прямо с костями.
Вислое личико Кланечки мелко потрясывалось. Кланечка очень боялась за Витеньку. Господи!..
19. Дача на Примыкане
Туголуков лежал в комнате отца на кушетке. Олимпиада шила в гостиной. Её ножная машинка начинала стучать внезапно, короткими приступами, резко обрываясь.
Взгляд Георгия Ивановича бесцельно бродил по комнате. После старинного буфета перешёл на фотопортрет отца на стене… Отец смотрел на лежащего сына. Смотрел вполоборота. Как киноартист. Как со стены фойе кинотеатра. Небывало молодой, смеющийся. А на другом фотопортрете, рядом, он уже был снят с внуком Андрюшкой, который смотрел на своего деда снизу вверх. Приобнятый им, восторженный…
Помнит ли теперь внук своего деда?..
…Из детского сада выбежал казахский мальчишка лет пяти. С испуганным плачущим лицом: «Я один остался! Совсем один!» Иван Георгиевич Туголуков, пришедший забрать своего внука, с удивлением отпрянул. Хотел успокоить мальца, спросить, что случилось.
Но тот уже бежал вдоль окон. Оглядывался. Пустой двор был как упавшая вдруг пустота без солнца. Мальчишка громко говорил себе: «Побегу я домой! Скорей побегу я домой!» И побежал к соседнему пятиэтажному дому. И скрылся в крайнем подъезде… Да что же такое случилось! Иван Георгиевич поспешно вошёл в раскрытую настежь дверь.
Внутри садик был пуст. Ни воспитательниц, ни детей. Ни на первом этаже, ни на втором. В кухне на плите уже закипала брошенная большая кастрюля. Хлопалась крышка, выпуская на края пену бульона или супа… Иван Георгиевич раскрыл рот: мистика, фильм ужасов.
Бросился в раскрытый пустой кабинет. К телефону. Набрал рабочий номер сына:
– Горка, слушай! Садик пустой, понимаешь?! Все пропали! Четыре часа дня. Ни воспитательниц, ни детей. Крышка хлопается на кухне. Входная дверь распахнута настежь. Где Андрюшка – не знаю. Давай, дуй сюда!
Как тот казачонок, бежал вдоль здания. Почему-то высматривал пропавших на крыше.
Увидел всех за зданием, неподалёку от деревянной беседки. Сразу стал, схватившись за грудь и качаясь. Да чёрт вас дери!
Две женщины в белых халатах сидели на приступке песочницы, вытянув ноги. Спиной к копающимся в песочнице детям. Спокойно ходила там и длинноклювая лёгкая кепка внука Андрюшки… Дед всё смотрел, потирая грудь. Однако к воспитательницам – рьяно выбежал:
– Вы что же это делаете, а? Вы почему всё бросили? Ведь атомная война, можно подумать, началась? Все двери настежь! В здании ни души. Кастрюля кипит! А они сидят, видите ли, тут! Куда все убежали? Крепдешин где-то дают?..
Воспитательница и завернутая в полотенце повариха, опустив головы, с любовью разглядывали свои вытянутые белые ноги.
– Казачонок бежит-плачет, а они сидят… – Иван Георгиевич отряхивал от песка штанишки внука. – Крепдешин, видите ли, где-то выбросили…
У лежащего Георгия Ивановича защипало глаза. Сжал задрожавшие веки. Сразу пошло другое воспоминание. И некуда было от него деваться…
…Пришедший старик этот стоял перед Георгием Ивановичем как унылое железнодорожное расписание – в сером пыльнике до пят, до горла застегнутом на все пуговицы. На голове – драповая кепка.
– Что же вы – так? Ведь жарко? – спросил его Георгий Иванович.
– Ничего. Я привык, – ответил старик.
– Да зачем же? Тридцать в тени!
– Не беспокойтесь. Ничего. Кхым!
Один литой негнущийся сапог он ещё втащил в кабину, а вот второй – никак не уходил за ним в «запорожец».
– Одну минуту. Сейчас!
Старик поддал себя под колено, как-то согнул ногу, втащил, наконец, в кабину. Далеко откинувшись на сидении, захлопнул дверцу. Распорядился:
– Поехали!
Старикан не без привета, подумалось Георгию Ивановичу Туголукову. По просьбе отца он отправился на Примыкан смотреть продаваемую там дачу.
Старик всё время молчал. Сидел как замороженный. За городом Туголуков прибавил ходу. Пролетали последние гаражи. Как какие-то кирпичные заклады в степи. Глаза старика стали слезиться, он всё время вытирал их платком.
– Закрыть окно?
– Не беспокойтесь. Не надо.
Туголуков вдруг понял, что старик плачет. Стало тяжело. Чтобы отвлечь его, спросил:
– Долго ехать?
– Часа три.
Однако это что же? – они ночью, что ли, в горах будут плутать?
Старик понял опасения Туголукова:
– Не беспокойтесь. Я дорогу знаю.
Опять молчали. Старик забыто держал платок в кулаке. Больше не плакал. Проносилась, закруживая, выгоревшая степь. Расползались по ней черепахами горы. Лёгкий коршун, как планер, кружил, высматривал мышек.
О продаже дачи в Примыкане случайно прочитал на круглой тумбе объявлений отец. Почему-то сразу загорелся: «Съезди, Гора, посмотри. То, что мне нужно. Озеро рядом, за ним лес, грибы, ягоды. Ты с Андрюшкой будешь приезжать. Съезди. И цена умеренная».
Уже начинало темнеть в степи. Закат вдали походил на раздавленный, брошенный на землю помидор, розовые облака по высокому небу раскидались. Как раскрывшаяся тайна.
Иван Георгиевич, когда сын развёлся с женой и переехал к нему, стал маяться в собственной квартире. Почему-то считал теперь себя ней квартирантом. Всё время торчал в своей комнате. Не мешал сыну, как он думал, не вмешивался ни во что. Даже на внука своего (Андрюшку), когда тот приходил к ним, смотрел теперь как на маленького нежданного гостя, стеснялся его, не знал, чем занять до прихода его отца. Трудно ему стало почему-то и с сыном, и с внуком. Дача на Примыкане – это просто спасение! «Отец, ну чего ты выдумываешь! Ну чем ты нам мешаешь! Подумай! Ездить за семь верст киселя хлебать?» Но отец стоял на своём – займусь хоть там чем-нибудь. А то закис в городе…
Когда совсем стемнело, дорога неожиданно вылетела на бугор. Свет фар завис в чёрной пустоте, как в бездонной яме, но тут же снова снизу выхватил дорогу и дальше уже не выпускал, словно только для острастки встряхивал её, побалтывал.
Дачи от света ползущей, переваливающейся машины словно разом слепли и закрывались ветвями деревьев.
Потом свет дрожал на длинной штакетниковой ограде, точно подожжённый пылью. Старикан поспешно выставлял из кабины свои негнущиеся резиновые сапоги. Туголуков заглушил мотор, выключил свет.
Дом или сарай еле угадывался в глубине участка.
Все-таки это оказался дом. С глухой высокой стеной, вдоль которой шли, задирали ноги. С печной трубой вверху. Со стилизованным под Ригу флюгером над ней. Уснувшим, да так и оставшимся чернеть в небе.
Хозяин начал на ощупь ковыряться в замке ключом. Внутри включил везде свет. Дом состоял их кухни и двух комнат. Была обжита, казалось, только кухня. Во второй комнатке, тоже совершенно пустой, как и первой, у белой стены почему-то стояла пышно застеленная односпальная кровать… С пампушками на высоких железных спинках и кружевным подзором, – похожая на… могилку.
Туголуков повернулся к старику.
– Это кровать жены, – сказал старик. – Я её уберу. Если вы купите дачу.
Он по-прежнему был застёгнут до горла. Но стоял без кепки. Обнажённая голова его походила на пятнистую фасолину.
Ночевал Туголуков в машине. От духоты опустил на дверце стекло. Долго не мог уснуть. Словно слепцы за поводырем, теснились по небу звёзды.
Проснулся рано. От тесноты, от неудобства положения затекли ноги. Еле выбрался из машины. Разминался возле неё. Восход походил на вылезающие шкуры зебр.
Старик, видимо, давно сидел возле дома. С отпущенным каким-то лицом – будто с лопатой. Уже в пыльнике своём. Точно приготовившись уезжать. Увидел Туголукова, заспешил навстречу. Показал ему на коричневый домик в углу участка.
Туголуков умылся возле садового насоса. Старик подал полотенце. Потом ходили по участку.
Огород выглядел ухоженным. Подвязанные помидорные кусты были усыпаны и зелёными, и красными плодами. Но всё это почему-то не собиралось. И на огуречных грядках валялись уже желтеющие огурцы. Туголуков опять немо повернулся к старику.
– Всё останется вам, если купите дачу, – старик смотрел себе под ноги. Словно скрывал что-то, не договаривал.
Прошли вдоль штакетника позади участка, где рос небольшой яблоневый и вишнёвый сад. Была здесь и малина. И тоже – малина уже осыпалась, а яблоки и вишня висели точно выращенные на сельхозвыставке в Москве – только для обозрения.
Странно всё это, думалось Туголукову, когда шёл за стариком к дому.
Попили чаю в кухне. Старик закрыл на ключ входную дверь. Поехали обратно в город. Утреннее солнце у земли было тощим, как жестянка. Посторонним. По всей степи голо, будто на полигоне. Тишь вроде бы кругом, благодать. Вдали две бочки ТЭЦ парят, вода готова, ждут сатану. Несущиеся лохматые мокрые бурьяны словно полны были подпольных глаз чертей. Что называется, милый сердцу пейзаж. А? Туголуков повернулся к старику. Однако тот опять молчал. Как и вчера в дороге. Отвечал на вопросы коротко, чаще односложно: да, нет. Туголуков всё же узнал, что жена его умерла месяц назад, а сам старик будет менять квартиру на Кемерово, где живёт его дочь.
Когда въехали во двор, старик написал на бумажке свой телефон и опять с трудом полез из машины. Оказалось, что живет он в соседнем подъезде. А фамилия его, как узнал из бумажки Туголуков, была Мозговенко. Федор Ильич.
Дачу у старика купили. После оформления документов у нотариуса он отдал возле своего подъезда ключи. Сказал, что всё лишнее с дачи вывез. Сухо простился с Туголуковым. Но руку Ивана Георгиевича почему-то задержал. Напряжённо смотрел ему в глаза…
– Мы с вами были знакомы, Федор Ильич? – спросил его Иван Георгиевич Туголуков, такой же старик, как и Мозговенко.
– Нет! – почему-то истерично выкрикнул тот. Чуть не со слезами. – Не были! Извините! До свидания!
И он пошел к подъезду.
– По-моему, старик немного не в себе, – говорил Иван Георгиевич сыну, поднимаясь с ним по лестнице к своей квартире.
Через два дня они уже ехали в Примыкан на свою дачу. С постелями, с кухонной утварью, с сумками, набитыми продуктами.
Место сразу отцу понравилось – до леса рукой подать. Виден был даже край озера. Сам дачный посёлок в зелени, в садах. Сын тоже радовался, таская всё от машины к даче.