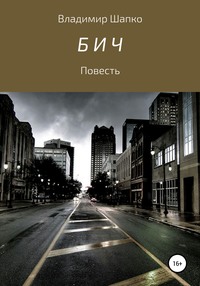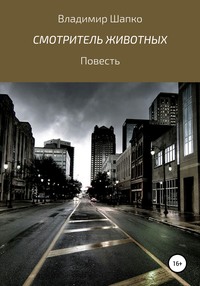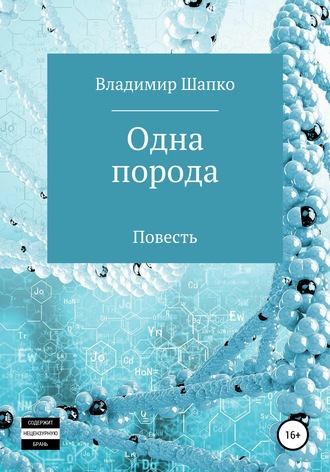
Одна порода
В кафе было уже немало людей. Сидели за столиками и взрослые, и дети. С мороженым, с бутылками газировки. Человек пять стояло к стойке. Константин Иванович пристроился к ним.
Совершенно не ворочая шеей, тубистая буфетчица умудрялась всё отовсюду доставать. С боков, позади себя. Бутылка коньяка, тарелочки, казалось, сами подплывали к ней, к коротким ее рукам. Уже после того, как она отходила, вдруг начинал верещать кассовый аппарат. У нее за спиной. Точно сам по себе. Ни одного лишнего движения у женщины. Профессиона-ал. Константин Иванович размахнулся… на сто грамм коньяку! Лечиться, так лечиться! С подносом направился опять на край веранды, как бы к своему столику. Хотя там и сидел уже один гражданин. Армянин вроде бы. Можно к вам? Армянин кивнул и даже отодвинул стул. Вот и хорошо! Все расставил на столике Константин Иванович и пошел обратно к буфету, чтобы вернуть поднос.
Армянин сидел возле своего стакана очень грустный. Нос его свисал как кета. Соленая, красная. Кивнул, когда Константин Иванович приподнял свой стакан. Мол, давай. Пей. Не обращай внимания. Грущу. Константин Иванович выцедил половину. Стал закусывать бутербродом с сыром.
– Жена моя… – мотнул головой армянин.
– Где?! – испугался Константин Иванович.
– Буфетчица… – не спускал печальных глаз с визави армянин. – Бывшая… Галей звали…
Конечно. Понятно. Бывает. Ваше здоровье. Константин Иванович поднял стакан. Дескать, прозит! Выпил. Опять жевал бутерброд.
Армянин задумался, накорнувшись вперед. Жидкие волосы на голове были сродни журавлиным останкам. Покрутил в руках пустой стакан, полез из-за стола. Красную новую десятку держал у буфета робко. Как поднос. «В очередь!» – рявкнули ему от кассового аппарата. Послушно встал за двумя посетителями. Без мензурки буфетчица шарахнула ему полстакана. Начала бить на стойку сдачу. Рублями, рублями! Потом мелочью. Пятак сверху припечатала. Всё! Следующий! Армянин стоял со стаканом, не зная, то ли выплеснуть из него на жену, то ли поставить на стойку и горько заплакать. Да, драма. Не позавидуешь. Константин Иванович пробирался к выходу.
Опять сидел на прежнем месте, на поляне, соорудив из чьей-то газеты на голову бумажный колпак. Вообще-то бумажный шлем. Если точнее, правильнее…
…теперь хоть до вечера можно… умеет ли Сашка такие… мы, пацанами, запросто… заворачивали-загибали… быстро… надо научить его… к шлему щит, понятно… меч из дранки… и понеслась… да, погорел армянин… измена, конечно… трепанулся… тоже, наверное, повар какой-нибудь… или директор базы… а если не любишь… давно не любишь… это как – измена… не давать развод пять лет… по парткомам бегать… хотя давно уже безбилетный… ее же стараниями… ласково, иезуитски разговаривать с тобой… и тут же за волосы, за волосы драть… как льва какого-то дрессированного… кнутом и пряником… это – как?.. удивлялся еще Кольке… с Аллой Романовной его… колотит… помойное ведро поставила… как апофеоз уже всему… скандалил… в стенку бил… а сам на другое утро извиняться заявился… прошу простить, Алла Романовна… погорячился… корректен… белогвардейский офицер… каблучками еще щелкануть надо было… пардон, мадам… а та стесняется, а та стесняется… как стерва… ручки заминает… хихикает несмазанно с утра… как якорная цепь… из зубчатой лебёдки… кому какое дело, хирт-хирт-хирт… это никого не касается, хирт-хирт-хирт… я буду жаловаться, хирт-хирт-хирт… э-э, осел… тряпка… ладно хоть Коле все же помог… смылся тот… набрался-таки мужества… через два дня умотал из городка… провожали с Булкиным… из местной газеты тоже парень… на пристани… в буфете… пьяные, конечно… стукались кружками, плакали и обнимались… рассказывали, так сказать, очевидцы… потом засовывали Колю в «Ракету»… а он с плачем рвался назад и обнимал друзей своих… то есть нас, получается, с Булкиным… кое-как с чемоданом затолкали в судно… и Коля умчался вверх по реке за убегающим солнцем… так сказать, к новой, светлой жизни… ох, и пометалась стерва по городку… ох, и поискала… ищи теперь «урода очкастого», стерва… ищи ветра в поле… мы с Тоней – молчок… могила… Булкин тоже не скажет… верный друг Коли… Тоня только долго не могла успокоиться… особенно после встреч со стервой… чаще во дворе… дома делала большие глаза: Начальница Отдела Культуры… вы только подумайте: Куль-ту-ры… да-а… отец пришел опять в память… часто работал с сыном… с младшим… последним… с любимцем Костей… что-нибудь налаживали там… во дворе… в сарае… изредка подматюкивал… как бы вводил в подростка сына яд малыми дозами… так и с куревом при нем… курил мелконькими затяжками… курил как бы только слегка… понарошку… поглядывал на сына… наивная голова… а как он играл… на праздники… на пасху… в коленях ловко приручал гармошку… возле дома наяривал… с отсутствующим, даже страдательным выражением лица… будто и не он это играет – а мученик… бабы подпирались кулачками, охали… а он цыганским глазом к матери… и опять мученик… же-естокий был мужчина… да-а… всё меж ними было… и любовь, и слезы… шестерых детей поднять… всегда полон дом детьми был… и своими, и родственников… а братья его… тоже все речники… с усами заточенными… как с кошками рыбацкими… и жены их тут же… плясуньи-хохотуньи-работницы… и все в его дом, за его стол… да, стол… семейный его стол… не понимали мы тогда… чем он для него был… пошучивали… взрослые уже… а дурни… да-а… иногда вечерами сидел за этим столом один… руки широко поставив… как будто за собранными им землями… по двенадцать-четырнадцать человек усаживалось… это в будни… обедать… ужинать… и еще места оставались… а уж гулянка когда… во всю длину комнаты… да-а… засыпает послеполуденная одурь реки… поблескивает… плавится… речной трамвай почýхал… этот на лапоть смахивает… этот недалеко… дачники внутри… с корзинами до потолка… эх, бывало, татары на лодках выплывали… семействами… по воскресеньям… обязательно тальян-гармонь с ними… переливается… с колокольцами… далеко по воде слышно… ничего не стало… Левинзон опять приходил… как на работу уже ходит… как прописался… когда мое письмо будет напечатано, т. Новоселов… а почему оно должно быть напечатано, т. Левинзон… да как так… да вы же бюрократ, т. Новоселов… махровый бюрократ… я буду с вами бороться… порода такая… еврей… лицом как олимпийский факел… с которым бегут многие километры… по странам и континентам… негасим… ни при каких обстоятельствах… эх, борец… почему не живешь-то как все… ведь отовсюду выгнали… жена втихаря прибегает… не берите у него писем… не берите, умоляю, он нас погубит… это – как?.. одни глаза да волосы остались… факел… горит… полечиться бы тебе, бедолага… отдохнуть… а попробуй скажи… так и будет ходить… пока не засунут… эх-х… закурить, что ли… сколько там времени прошло… рано еще… потерпим… еще жалуется Каданникову… ответсекретарю… нашел кому… ягненок волку… да Каданников же стучит… вся же редакция знает об этом… осведом… с многолетним стажем… так попробуй скажи… мне нечего скрывать… у меня всё правда… требую напечатать… дурень… а тот всю жизнь в Главные метит… бездарь… неуч… как… как узластый деревенский корень… неимоверным упорством вспоровший городской асфальт… неимовернейшим… и побега нового не дает (и не даст)… и люди спотыкаются – шишка, бугор… вот уж кого терпеть не могу… один такой гад на всю редакцию… ему ведь стукнули обо мне… из Бирска-то… а уж он развернулся… раздул кадило… сволочь… закурить все-таки… никак нельзя после таких не закурить… вон Тигривый… тот не закурит… не станет переживать… веселый человек… зачем-то десятку ему дал… своими руками… когда теперь отдаст… Игорь Тигривый… прическа – как петух, сидящий у него на голове… чудо в джинсах… грязных уже в той степени… когда их можно ставить возле кровати на ночь… стоймя… и любоваться на них вместе с любовницей… что, наверное, и делает сердцеед… залетает однажды… к нам на Письма… Константин-Иванович-там-ко-мне-пришли-приехали-прилетели… мать-дочь-кто-то-еще… так-меня-нет-не-было-и-никогда-не-будет… распахивает окно – и сигает… со второго этажа… прямо на головы прохожим… анекдот редакции… Гырвас кряхтит, но терпит… нет лучше спецкора… да и беспартийный… не потянут… ты там где-нибудь… Тигривый… в кустах своих, что ли… на танцах… почему они к тебе в редакцию-то идут… не знаю, Григорий Васильевич… честное слово, не знаю… несознательные… и смеется, подлец… легкий человек… вот уж для кого всё всегда ясно… а тут… городишь, городишь черт знает что сам себе… нагородил уже до неба… никак вылезти не можешь… родиться надо таким… чтобы на все плевать… не получается… куда уж… с милиционером вот что делать… Рукину, что ли, послать… чтобы нашла этого милиционера… вот – тоже… что она Рукина, что Валя, Валентина, давно забыли… Добрый День… вот теперь ее имя… и ведь гордится… ходит… наверно, в юности своей нюхнула интеллигентности… посреди грязи-то деревни… нюхнула культурного, незабвенного… учитель ли так говорил… от приехавшего ли кого… лектор, к примеру, был… с тех пор – только «добрый день»… утро ли, вечер… по нескольку раз с одними и теми же… где эта… ну как ее… ну «добрый день» которая… пошлите ее… срочно… так и прилипло… сама себя, глупенькая, означила… не деревенская уже, не городская… не понимает этого… ходит по коридорам… чтобы сказать это свое «добрый день»… Тигривый, говорят… и тот даже отпал… добрый день, товарищ Тигривый… выйдет ли замуж когда… городские-то просмеивают… вся жизнь перевернута… не понимает хоть пока, ладно… «РеАхтер! РеАхтер!»… и побежали деревенские ребятишки… в Яблочной было… на высоком берегу Белой… «Реахтер!»… что за «реáхтер» такой… оказывается, реактивный самолет… в небе… ИЛ летит… этакая дура… «Реахтер»… хохотал до слез… вот тебе «добрый день» и «реахтер»… да-а… что же делать с милиционером… пишет… в письме… этот обидчик мой, лейтенант Григорьев, по национальности русский… его особые приметы: нос древнегреческой формы, широкие плечи и узкий таз, то есть фигура у него среднеазиатская… да-а… в «Крокодил» хоть посылай… одного не может понять, дурачок, что сор из избы вынес… что не работать ему там больше… не быть в милиции… да… а пособник лейтенанта Григорьева Стрелков, находясь в больнице, залез в чужую семью и разбил ее… так и пишет… а дальше… после этого случая он приходил в мой дом еще четыре раза… только один раз в трезвом виде, а три раза с угрозой… все время подпаивал Григорьев, направлял… я хоть и милиционер, но тоже человек… начальство смеется… иди служи, говорят… а как служить… да-а, пропал милиционер… пропал… эх, еще, что ли, дернуть… сходить… нет, хватит… это уже не лечение будет… хватит… башка как хронометр стала… утром просыпаюсь ни свет ни заря… ровно через четыре часа… и пятнадцать там каких-то, семнадцать минут… вот эти минуты поражают… хоть часы проверяй… у всех стариков, наверное, так… чем старше, тем меньше спят… мозг трепыхается… боится… вздрючивается по утрам… хотя Даниловну взять… свистит до десяти… если не разбудить… утром, наверное, отчалю… отец – утром… на рассвете… как он мылся в последний раз… не забыть… за три дня до смерти… мыли с младшей сестрой… с Настей… раздели когда, стоять не может, трясется весь… стариковский членок как тряпочка… как белая тряпочка… стесняется нас с сестрой… ручонкой, ручонкой прикрывается… вы уж простите меня, старика, простите… Господи, как забыть… муравей лезет на стебель… лезет, падает и лезет… падает и лезет… как на копье… на казнь… глаза застлало… ничего не вижу… где платок… опять забыл… да ладно…
«Почему жизнь-то так быстро уходит? Костя? Нюра – полгода не прошло. Теперь я вот». Константин Иванович подсовывал под себя табуретку, присаживался, бормотал в растерянности: «Ну что ты, отец… Что ты… Поживешь еще…» В сумраке спальни махнула длинная белая рука. И снова упала с кровати. Как сломавшийся овёс. Такой была уже худобы!.. Константин Иванович сглотнул. Отвел глаза.
Оба молчали. Осторожно переступали ходики на стене.
Потом нужно было уходить на работу. «Иди, иди, Костя. Чего тут…»
Смотрел на большой провалившийся висок отца, куда проникала сейчас слеза. Так протекает последняя вода в провалившуюся речку… Осторожно прикоснулся к виску губами. Отец зажмурился… «Поправляйся, папа…» Уводил глаза, долго пробирался к двери.
Сестра плакала на груди у брата. Голова ее была как кипяток…
Через два месяца после похорон, когда дом уже был продан примчавшейся из Владивостока старшей сестрой… будучи по редакционным делам на Авторемонтном заводе, который в ту пору находился неподалеку от Белой, почти на берегу, Константин Иванович обратно в город зачем-то пошел не низом, где было ближе и проще, а верхней дорогой, через Старую Уфу. Было уже часов десять вечера. Темно. Постоял, покурил возле одинокого фонаря, где убивалась и убивалась мошкá. Когда вышел на свою улицу и увидел дом, – сердце сразу заколотилось где-то вверху, как та мошка под фонарем, а ноги сразу разучились ходить. Дом просвечивал темноту понизу. Окна были пусты, без единой занавески, без цветка. Пусты были и комнаты. Везде словно гулял красный сквозняк. Какие-то два парня (новые хозяева? воры? кто они?) вытаскивали из красного зёва двери на крыльцо и дальше стол. Отцовский стол. Парни вытащили его, перевернули и бросили на землю. Ножками вверх. И почти сразу же один из них начал ломать. Орудовать длинной выдергой. Стол затрещал. Константин Иванович не выдержал. В следующий момент началось какое-то безумие. Он забежал во двор, стал останавливать парней, что-то говорить про стол, что-то объяснять им, что не надо, что заберет, что вывезет, сегодня же, сейчас, сколько вы хотите, сколько?! Не ломайте!!
Парни смотрели на перекинутый стол…
– Ну, пятерку, что ли… За такой хлам…
Ладно. Хорошо. Я сейчас! Сунул деньги. Заторопился, побежал к Есенбердину. Коновозчику. Тот поможет. Всегда поможет. Быстро вернулся с лошадью, телегой и стариком. Стол погрузили. Так же, вверх ножками. Есенбердин окидал веревками. Выехали со двора.
– Куда теперь, Кинстúн?
– Ко мне. Домой, – не давая себе отступать, сказал Константин Иванович. Будь что будет.
Он шел сзади, держался за ножку стола, беспрерывно курил. Ничего, всё нормально. Должна же она понять, черт дери! Ничего. Ладно. Как-нибудь. Колеса скрежетали, стукали ободами по камням. Второй этаж. Нормально. Затащим. Скатерть на него. Незаметно будет. Должна же она. Лестница. Освещенная. Широкая. Сталинский дом. Они со столом суетятся. Расторопные. Как тараканы. В раскрывшейся двери Лицо. Лицо С Вертикальными Глазами. А за лицом – ковры, люстры, хрустали… Нет… Константин Иванович стал спотыкаться. Отпустил ножку. Отставал все больше и больше.
На мосту через Быстрянку – остановил Есенбердина.
– Чего, Кинстин?
– Нет, не надо везти дальше, дядя Касым… Давай обратно…
– Куда?
– Себе возьми, дядя Касым.
– Так ведь не войдет! Домишка маленький. Разве не знаешь?..
Есенбердин стоял, низенький, кривоногий, в каких-то толстых, будто ватных штанах, на мягкую похожий игрушку.
– Ну, разломай… На дрова… Еще там чего…
– Ни-ит. Такой стол нельзя-а… Лучше отдам. А? Кому-нибудь? Кинстин! – Глаза из-под кепчонки блестели. Как кнопки от тальян-гармошки.
Константин Иванович махнул рукой. Есенбердин пошел сразу заворачивать, понукать. У первого же дома остановился, застучал в окошко:
– Эй! Стол не нáдым?.. Вон, хороший… Даром, даром!..
Ни-ит? Ладно. Спасúбам!
Дальше телега полезла в темноту улицы, к сине мерцающим, бубнящим окнам.
– Эй, хазяйкам! Вон столик. Не нáдым? – Так предлагают игривую кошку. «Столик» свисал с телеги еще на длину одной телеги. – Ни-ит? Удивительно! Ладно. Спасúбам.
Голос и телега лезли все выше и выше. Затихали. Телевизионные окна мерцали, точно ульи по пасеке.
– Эй, хазяйкам…
Облокотясь на перила, Константин Иванович смотрел на бьющееся под одинокой складской лампочкой вдали черненькое маслецо речки. Вода набегала под мост. Тянула за собой. Хотелось закрыть глаза – и как в омут головой…
…Константин Иванович все сидел на Случевской горе. Солнце опустилось на реку, и расплавившаяся вдали река, как от поставленной красной лупы, самосжигалась в черных зыбящихся воротах железнодорожного моста, за которыми, казалось, уже ничего нет…
Точно с гирями, к выходу шла буфетчица с двумя сумками. Армянин деликатно за ней переступал. Старался в ногу. От криков буфетчицы, как от ударов тока, журавликом перескакивал в кусты. Снова появлялся, чтобы переступать. И опять упрыгивал в кустарник, словно ветром сметенный.
Константин Иванович стал подниматься, чтобы тоже идти домой.
Через три дня, сразу после работы бегал в центре по магазинам. Вынюхивал поверх очередей, сразу становился где надо, накупал. Долго стоял за апельсинами. По рубль двадцать. В магазине было душно. Константин Иванович поминутно вытирался платком.
Дома все добытое упаковывал, а потом укладывал. Ну, вроде бы всё. Приготовился. К отплытию, так сказать. К дальней дороге. В двух руках и за спиной. Даниловна у соседей, наверное. Сказать бы. Да ладно. Догадается.
…Мне бы увидеть Ноговицина. Александра.
– А вы кто ему? Минуту!.. ОВД Советского района… – Голубенькие глаза просвечивались, слушали трубку. Короткий седоватый волос на голове был кучеряв вверх, стоек. – Так. Записываю. Цурюпы, 108\1, квартира 65. Раз-гиль-дяев. Однако фамилия. Так, принял. Дежурный, старший лейтенант Батраченко. Ждите. Будем. Всё.
Константин Иванович стоял с рюкзаком, с двумя сумками. На затылок съехала пенсионерская шляпка.
– …Так вы… из деревни его? Из Кузьминок? Родственник! Точно! Одна порода! Там все такие.
Откинувшись от стола, милиционер смеялся. Посвечивал золотым зубом. Как хохлацкая смуглая ночка окошком.
– Да понимаете, я ведь…
– Нету его. В патруле. Будет ездить до 23-ех ноль-ноль. Вон, дочку оставил.
Лет трех-четырех девочка выделывала в углу за столом карандашом в тетрадке.
– После садика приводит. Не с кем. Да вы знаете, чего говорить, – все чему-то радовался милиционер.
Константин Иванович подошел. Девочка была крохотной. С торчащими косичками. С личиком глазного котенка. Карандаш и глаза остановились, замерли… Протянул ей апельсин. Девочка взяла. Удерживала большой апельсин двумя ручонками. Милиционер все не унимался:
– Вам ночевать негде, понятно. Ждите. Вместе поедете. На Бульвар Славы, комната 606. Шестой этаж. Чайку попьете, может, еще чего, завтра он отдыхает. – Милиционер все смеялся. Посвечивал зубком. То ли оттого, что жизнерадостный такой, то ли оттого, что так легко решил задачку. Константин Иванович записал адрес, поблагодарил, сказал, что зайдет в понедельник. На пороге обернулся. Девочка по-прежнему удерживала апельсин двумя руками. Словно брошенную с неба большую кабáлу. Знак.
– …Передадим, передадим. Не волнуйтесь. Одна порода. Никуда не денешься. Сразу догадался. Ленка, давай обдеру апельсин!..
…да… одна порода… и никуда не денешься… один к одному… как клеймёные… только я был брошен с двумя… погодками… шести и семи лет… а так один к одному… все верно… что Ноговицин, что Новоселов… глаз милиционера… глаз-ватерпас… и лейтенант Григорьев свой был… и Стрелкин… да не один… абсолютно верно… одна порода… и никуда не денешься… чего ж тут… трепыхаться… за версту видно… колодки ведь клеймёные… счастливые неудачники, толкущиеся возле порога… все верно…
Спинки сидений жестко тряслись, растрясывались до стукотни, до лихорадки. Автобус опять был полупустой, восьмичасовой, последний. Константин Иванович трясся на переднем боковом, как баба детей, одерживал руками свои сумки. Ногой старался подрулить к себе упрыгивающий рюкзак. По грейдеру после Черниковки шофер гнал не на шутку. Где-то сзади все время тарабáхалось пустое ведро. Какого-то пьяного вдруг стало кидать по заднему сидению как строительные леса. Пока не укинуло, не рассыпало где-то внизу. Две пожилые женщины пытались говорить, но рты прихлопывали. Как тайны. Как свой молчок. Хотелось и смеяться, и плакать. Давно давило за грудиной, покалывало сердце. Давно перекидывал во рту таблетку, боясь прикусить язык. А автобус… уже бил, бил по ухабам. Да что же это такое! Константин Иванович привстал, постучал в выгнутое оргстекло. И тут же улетел на место. Пригнувшийся шофер даже не обернулся. Пригнувшийся шофер решил разбить автобус вдребезги.
Побросав сумки, не обращая внимания на скачущий рюкзак, Константин Иванович раскинулся, вцепившись левой рукой в штангу, а правой за спинку сиденья. С тоской смотрел за поля вдаль. Хоть там не трясло. Как будто бы уснувшие дневные шрапнели, ушли к закату вечерние лохматенькие облачка. И там же, вдали, солнце трепетало в черном тополе, как мерзнущая потонувшая лампадка…
Он торопился по щербатой площади, окруженной кирпичными низкорослыми лабазами. Выдыхал в красное небо голубей, как реденькую сажу, обезглавленный собор. Из еще открытой пивной пьяницы выходили на крыльцо, как из кузницы. С лицами – как с горнами. Глаза выхватывали почему-то всё это. Стремились унести с собой, запомнить.
Пройдя площадь, он так же торопливо шел, оступался в узкой, по-вечернему сильно притемненной улице, старался глядеть под ноги, солнце между домами мешало, цеплялось как репей. Впереди, в перекрестье двух улиц вдруг увидел женщину и мальчишку. Они стояли рука за руку в низкой лаве солнца… Заторопился к ним с сумками, неуклюже побежал. Они тоже увидели его, заспешили навстречу. А он уже шел, всё замедляя и замедляя шаг. Таращился на них, как на маяки. Хватался за узел галстука, бросив одну сумку. Уже серый, без воздуха. Ноги его стали вдруг легкими, снялись с земли и, мучительно, медленно запрокидываясь, он полетел в рассыпающийся и плотнящийся черный пух, рассыпающийся и плотнящийся, взмахивая второй сумкой, осыпаясь апельсинами…
…он помнил, как знакомился с ней… тридцать шесть лет назад… она протянула ему очень узкую упругую руку… Виктория… протянула – как хлыст… словно чтобы он потрогал и оценил… и он потрогал и оценил: очень приятно познакомиться… Костя…