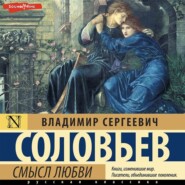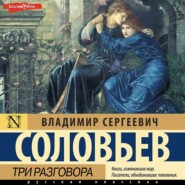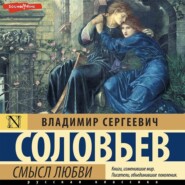По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А ведь если бы эти безмозглые дьяволы после двух первых-то залпов, что были им, можно сказать, в упор пущены – саженях в двадцати-тридцати, – если бы они вместо того, чтобы назад кинуться, на пушки поскакали, так уж нам была бы верная крышка – третьего-то залпа уж не дали бы!
Ну, с нами Бог! Кончилось дело. А у меня на душе – светлое Христово Воскресение. Собрали мы своих убитых – тридцать семь человек Богу душу отдали. Положили их на ровном месте в несколько рядов, глаза закрыли. Был у меня в третьей сотне старый урядник, Одарченко, великий начетчик и способностей удивительных. В Англии был бы первым министром. Теперь он в Сибирь попал за сопротивление властям при закрытии какого-то раскольничьего монастыря и истреблении гроба какого-то их почитаемого старца. Кликнул я его. «Ну, – говорю, – Одарченко, дело походное, где нам тут в аллилуиях разбираться, будь у нас за попа – отпевай наших покойников». А для него, само собой, первое удовольствие. «Рад стараться, ваше превосходительство!» А сам, бестия, даже просиял весь. Певчие свои тоже нашлись. Отпели чин-чином. Только священнического разрешения нельзя было дать, да тут его и не нужно было: разрешило их заранее слово Христово про тех, что душу свою за други своя полагают. Вот как сейчас мне это отпевание представляется. День-то весь был облачный, осенний, а тут разошлись тучи перед закатом, внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные, точно Божьи полки собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то и легкость непостижимая, точно с меня вся нечистота житейская смыта и все тяжести земные сняты, ну, прямо райское состояние – чувствую Бога, да и только. А как стал Одарченко по именам поминать новопреставленных воинов, за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положивших, тут-то я почувствовал, что не многоглаголение это официальное и не титул какой-то, как вот вы изволили говорить, а что взаправду есть христолюбивое воинство и что война, как была, так есть и будет до конца мира великим, честным и святым делом…
КНЯЗЬ (после некоторого молчания). Ну а когда вы похоронили своих в этом светлом настроении, неужели совсем-таки не вспомнили о неприятелях, которых вы убили в таком большом количестве?
ГЕНЕРАЛ. Ну, слава Богу, что мы успели двинуться дальше прежде, чем эта падаль не стала о себе напоминать.
ДАМА. Ах, вот и испортили все впечатление. Ну, можно ли это?
ГЕНЕРАЛ (обращаясь к князю). Да чего бы вы, собственно, от меня хотели? Чтобы я давал христианское погребение этим шакалам, которые не были ни христиане, ни мусульмане, а черт знает кто? А ведь, если бы я, сойдя с ума, велел бы их в самом деле вместе с казаками отпевать, вы бы, пожалуй, стали меня обличать в религиозном насилии. Как же? Эти несчастные милашки при жизни черту кланялись, на огонь молились, и вдруг после смерти подвергать их суеверным и грубым лжехристианским обрядам! Нет, у меня тут другая была забота. Позвал сотников и есаулов и велел объявить, чтобы никто из людей не смел на три сажени к чертовой падали подходить, а то я видел, что у моих казаков давно уж руки чесались пощупать их карманы, по своему обычаю. А ведь кто их знает, какую бы чуму тут напустили. Пропади они совсем!
КНЯЗЬ. Так ли я вас понял? Вы боялись, чтобы казаки не стали грабить трупы башибузуков и не перенесли от них в ваш отряд какой-нибудь заразы?
ГЕНЕРАЛ. Именно этого боялся. Кажется, ясно.
КНЯЗЬ. Вот так христолюбивое воинство!
ГЕНЕРАЛ. Казаки-то!?… Сущие разбойники! Всегда такими и были.
КНЯЗЬ. Да что мы, во сне, что ли, разговариваем?
ГЕНЕРАЛ. Да и мне что-то кажется неладно. Никак в толк не возьму, о чем вы, собственно, спрашиваете?
ПОЛИТИК. Князь, вероятно, удивляется, что ваши идеальные и чуть не святые казаки вдруг, по вашим же словам, оказываются сущими разбойниками.
КНЯЗЬ. Да; и я спрашиваю, каким же это образом война может быть «великим, честным и святым делом», когда, по-вашему же, выходит, что это борьба одних разбойников с другими?
ГЕНЕРАЛ. Э! Вот оно что. «Борьба одних разбойников с другими». Да ведь то-то и есть, что с другими, совсем другого сорта. Или вы в самом деле думаете, что пограбить при оказии – то же самое, что младенцев в глазах матерей на угольях поджаривать? А я вам вот что скажу. Так чиста моя совесть в этом деле, что я и теперь иногда от всей души жалею, что не умер я после того, как скомандовал последний залп. И ни малейшего у меня нет сомнения, что умри я тогда – прямо предстал бы перед Всевышнего со своими тридцатью семью убитыми казаками, и заняли бы мы свое место в раю рядом с добрым евангельским разбойником. Ведь недаром он там в Евангелии стоит.
КНЯЗЬ. Да. Но только вы уж, наверное, не найдете в Евангелии, чтобы доброму разбойнику могли уподобляться только наши единоземцы и единоверцы, а не люди всех народов и религий.
ГЕНЕРАЛ. Да что вы на меня, как на мертвого, несете! Когда я различал в этом деле народности и религии? Разве армяне мне земляки и единоверцы? И разве я спрашивал, какой веры или какого племени то чертово отродье, которое я разнес картечью?
КНЯЗЬ. Но вы вот и до сих пор не успели вспомнить, что это самое чертово отродье – все-таки люди, что во всяком человеке есть добро и зло и что всякий разбойник, будь он казак или башибузук, может оказаться добрым евангельским разбойником.
ГЕНЕРАЛ. Ну, разбери вас тут! То вы говорили, что злой человек есть то же, что зверь безответственный, то теперь, по-вашему, башибузук, поджаривающий младенцев, может оказаться добрым евангельским разбойником! И все это единственно для того, чтобы как-нибудь зла пальцем не тронуть. А по-моему, важно не то, что во всяком человеке есть зачатки и добра и зла, а то, что из двух в ком пересилило. Не то интересно, что из всякого виноградного сока можно и вино, и уксус сделать, а важно, что именно вот в этой-то бутылке заключается – вино или уксус. Потому что если это уксус, а я стану его пить стаканами и других угощать под тем же предлогом, что это из того же материала, что и вино, то ведь, кроме порчи желудков, я этой мудростью никакой услуги никому не окажу. Все люди – братья. Прекрасно. Очень рад. Ну а дальше-то что? Ведь братья-то бывают разные. И почему же мне не поинтересоваться, кто из моих братьев Каин и кто Авель? А если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтоб ему больше не до озорства было, – вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Отлично помню, поэтому и вмешался, а если бы не помнил, то мог бы спокойно мимо пройти.
КНЯЗЬ. Но откуда же такая дилемма: или мимо пройти, или затрещину дать?
ГЕНЕРАЛ. Да третьего-то исхода чаще всего и не найдете в таких случаях. Вот вы предлагали было молиться Богу о прямом вмешательстве, чтобы Он, значит, мгновенно и собственною десницей всякого чертова сына в разум привел, – так вы сами, кажется, от этого способа отказались. А я скажу, что этот способ при всяком деле хорош, но никакого дела заменить собою не может. Ведь вот благочестивые люди и перед обедом молятся, а жевать-то жуют сами, собственными челюстями. Ведь и я не без молитвы конною артиллерией-то командовал.
КНЯЗЬ. Такая молитва, конечно, есть кощунство. Нужно не молиться Богу, а действовать по-Божьи.
ГЕНЕРАЛ. То есть?
КНЯЗЬ. Кто в самом деле исполнен истинным духом евангельским, тот найдет в себе, когда нужно, способность и словами, и жестами, и всем своим видом так подействовать на несчастного темного брата, желающего совершить убийство или какое-нибудь другое зло, – сумеет произвести на него такое потрясающее впечатление, что он сразу постигнет свою ошибку и откажется от своего ложного пути.
ГЕНЕРАЛ. Святые угодники! Это перед башибузуками-то, что младенцев поджаривали, я, по-вашему, должен был проделывать трогательные жесты и говорить трогательные слова?
Г[-н] Z. Слова-то по дальности расстояния и по взаимному незнанию языков были бы тут, пожалуй, вполне неуместны. А что касается до жестов, производящих потрясающее впечатление, то лучше залпов картечи, воля ваша, для данных обстоятельств ничего не придумаешь.
ДАМА. В самом деле, на каком языке и с помощью каких инструментов объяснялся бы генерал с башибузуками?
КНЯЗЬ. Я вовсе не говорил, чтобы вот они могли подействовать по-евангельски на башибузуков. Я только сказал, что человек, исполненный истинного евангельского духа, нашел бы возможность и в этом случае, как и во всяком другом, пробудить в темных душах то добро, которое таится во всяком человеческом существе.
Г[-н] Z. Вы в самом деле так думаете?
КНЯЗЬ. Нисколько в этом не сомневаюсь.
Г[-н] Z. Ну а думаете ли вы, что Христос достаточно был проникнут истинным евангельским духом или нет?
КНЯЗЬ. Что за вопрос!
Г[-н] Z. А то, что если я желаю знать: почему же Христос не подействовал силою евангельского духа, чтобы пробудить добро, сокрытое в душах Иуды, Ирода, еврейских первосвященников и, наконец, того злого разбойника, о котором обыкновенно как-то совсем забывают, когда говорят о его добром товарище? Для положительного-то христианского воззрения непреодолимой трудности тут нет. Ну а вам чем-нибудь из двух уж непременно тут нужно пожертвовать: или вашею привычкой ссылаться на Христа и на Евангелие как на высший авторитет, или вашим моральным оптимизмом. Потому что третий, довольно-таки изъезженный путь – отрицание самого евангельского факта как позднейшей выдумки или «жреческого» истолкования – в настоящем случае для вас совершенно закрыт. Как бы вы ни искажали и ни обрубали для своей цели текст четырех евангелий, главное-то в нем для нашего вопроса останется все-таки бесспорным, а именно, что Христос подвергся жестокому преследованию и смертной казни по злобе своих врагов. Что Он сам оставался нравственно выше всего этого, что Он не хотел сопротивляться и простил своих врагов – это одинаково понятно как с моей, так и с вашей точки зрения. Но почему же, прощая своих врагов, Он (говоря вашими словами) не избавил их душ от той ужасной тьмы, в которой они находились? Почему Он не победил их злобы силою своей кротости? Почему Он не пробудил дремавшего в них добра, не просветил и не возродил их духовно? Одним словом, почему Он не подействовал на Иуду, Ирода, иудейских первосвященников так, как Он подействовал на одного только доброго разбойника? Опять-таки – или не мог, или не хотел. В обоих случаях выходит, по-вашему, что Он не был достаточно проникнут истинным евангельским духом, а так как дело идет, если не ошибаюсь, о Евангелии Христовом, а не чьем-нибудь другом, то у вас оказывается, что Христос не был достаточно проникнут истинным духом Христовым, с чем я вас и поздравляю.
КНЯЗЬ. Ну, соперничать с вами в словесном фехтовании я не стану, как не стал бы состязаться с генералом в фехтовании на «христолюбивых» шпагах…
(Тут князь встал с места и хотел, очевидно, сказать что-то очень сильное, чтобы одним ударом, без фехтования, сразить противника, но на ближней колокольне пробило семь часов).
ДАМА. Пора обедать! И нельзя второпях оканчивать такой спор. После обеда наша партия в винт, но завтра непременно, непременно должен продолжаться этот разговор. (К политику.) Вы согласны?
ПОЛИТИК. На продолжение этого разговора? А я так обрадовался его концу! Ведь спор решительно принимал довольно неприятный специфический запах религиозных войн! Совсем не по сезону. А мне моя жизнь все-таки всего дороже.
ДАМА. Не притворяйтесь. И вы непременно, непременно должны принять участие. А то что это: растянулись каким-то действительным тайным Мефистофелем!
ПОЛИТИК. Завтра, пожалуй, я согласен разговаривать, но только с условием, чтобы религии было поменьше. Я не требую, чтобы ее изгнать совсем, так как это, кажется, невозможно. Но только поменьше, ради Бога, поменьше!
ДАМА. Ваше «ради Бога» в этом случае очень мило!
Г[-н] Z. (к политику). Но ведь лучшее средство, чтобы религии было как можно меньше, – это вам говорить как можно больше.
ПОЛИТИК. И обещаюсь! Хотя слушать все-таки приятнее, чем говорить, особенно в этом благорастворении воздухов, но для спасения нашего маленького общества от междоусобной брани, что могло бы отразиться пагубным образом и на винте, готов на два часа пожертвовать собою.
ДАМА. Отлично! А послезавтра – конец спора о Евангелии. Князь успеет приготовить какое-нибудь совсем непобедимое возражение. Только и вы должны присутствовать. Нужно же немного к духовным предметам приучаться.
ПОЛИТИК. Еще и послезавтра? Ну нет! Так далеко мое самопожертвование не идет, к тому же мне нужно послезавтра ехать в Ниццу.
ДАМА. В Ниццу? Какая наивная дипломатия! Ведь это бесполезно: ваш шифр давно разобран, и всякий знает, что когда вы говорите: «Нужно в Ниццу», то это значит: «Хочу кутить в Монте-Карло». Что ж? Послезавтра обойдемся и без вас. Погрязайте в материи, если не боитесь, что сами через несколько времени духом станете. Ступайте в Монте-Карло. И пусть Провидение воздаст вам по вашим заслугам!
ПОЛИТИК. Ну, заслуги мои касаются не Провидения, а только проведения необходимых мероприятий. А вот удачу и маленький расчет – это я допускаю – в рулетке, как и во всем другом.
ДАМА. Только завтра-то уж мы непременно должны собраться все вместе.
РАЗГОВОР ВТОРОЙ
Audiatur et altera pars.[9 - Да будет выслушана и вторая часть (лат.).]
На другой день, в назначенный предобеденный час, я был вместе с прочими за чайным столом под пальмами. Недоставало только князя, которого пришлось подождать. Не играя в карты, я вечером же записал весь этот второй разговор с самого начала. «Политик» говорил на этот раз так много и так «протяженно-сложенно ткал» свои фразы, что записать все с буквальною точностью было невозможно. Я привел достаточное количество его подлинных изречений и старался сохранить общий тон, но, разумеется, во многих случаях мог лишь передать своими словами сущность его речи.