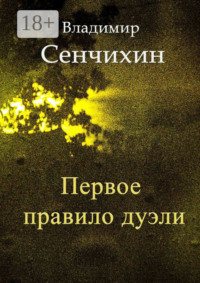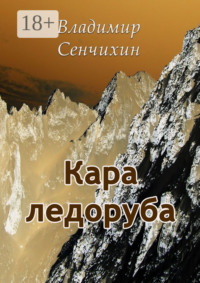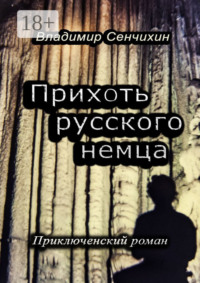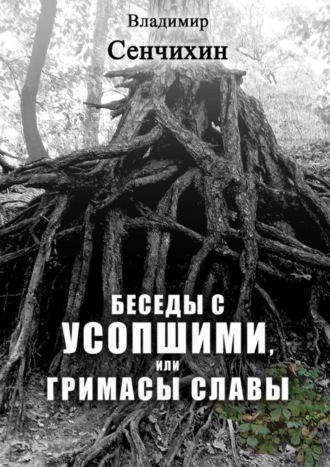
Беседы с усопшими, или Гримасы славы
Благородством царь не страдал. «Храбрейшие из индийцев, переходившие из города в город, сражались отчаянно и причинили Александру немало вреда. В одном из городов Александр заключил с ними мир, а когда они вышли за городские стены, царь напал на них в пути и, захватив в плен, перебил всех до одного».
Не в моих правилах беседовать с человеком на смертном одре, я не священник и отпущением грехов не занимаюсь. Но лучше выслушать мнение из первых уст, чем из посторонних источников.
Присаживаюсь на ковер подле каменного ложа, устланного бычьими шкурами. Лежащий на них молодой человек, ничем не прикрытый, со спутанными от пота пшеничными волосами, вызывает недоумение. Неужели это бледное худосочное тело, без каких—либо признаков мускулистости, принадлежит Александру? Нынешние историки считают его блондином, брюнетом и даже рыжим. Невольно вспоминаю рассказ Плутарха: «Апеллес (греческий живописец, придворный художник Македонского), рисуя Александра в образе громовержца, не передал свойственный царю цвет кожи, а изобразил его темнее, чем он был на самом деле. Как сообщают, Александр был очень светлым, и белизна его кожи переходила местами в красноту, особенно на груди и на лице. Кожа Александра очень приятно пахла, а изо рта и от всего тела исходило благоухание, которое передавалось его одежде, – это я читал в записках Аристоксена (древнегреческий философ и теоретик музыки). Причиной этого, возможно, была температура его тела, горячего и огненного, ибо, как думает Феофраст (древнегреческий философ, естествоиспытатель, теоретик музыки), благовоние возникает в результате воздействия теплоты на влагу. Поэтому больше всего благовоний, и притом самых лучших, производят сухие и жаркие страны, ибо солнце удаляет с поверхности тел влагу, которая дает пищу гниению. Этой же теплотой тела, как кажется, порождалась у Александра и склонность к пьянству и вспыльчивость».
По словам Плутарха, «всякий раз, как приходило известие, что Филипп (отец Александра) завоевал какой-либо известный город, или одержал славную победу, Александр мрачнел, слыша это, и говорил своим сверстникам: «Мальчики, отец успеет захватить все, так что мне вместе с вами не удастся совершить ничего великого и блестящего». Батюшка в качестве учителя приставил к сыну Аристотеля, благодаря ему Александр «не только усвоил учения о нравственности и государстве, но и приобщился к тайным, более глубоким учениям». После того, как Аристотель опубликовал свои книги, воспитанник написал ему письмо: «Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах».
Плутарх пишет, что «двадцати лет от роду Александр получил царство, которому из-за сильной зависти и страшной ненависти соседей грозили со всех сторон опасности. Варварские племена не хотели быть рабами, но стремились восстановить искони существовавшую у них царскую власть».
Попросту говоря, Плутарх считает стремление других народов к независимости абсурдным, им надлежит падать ниц пред поработителями и беспрекословно подчиняться.
В свете лампады – узкого глиняного горшка с фитилем из тростника – царь выглядит неважно. Если бы доподлинно не знал, что он жив, принял бы за покойника. Бросаются в глаза впалые щеки, фиолетовые круги под глазами, заросший рыжеватой щетиной подбородок, заострившийся нос и узкие губы, напоминающие двух слипшихся обескровленных пиявок. Александр, не открывая глаз, шумно и горячо дышит.
По моим прикидкам, жить ему осталось недолго. Какая—то причуда дьявола: судя по множеству шрамов на теле, царь сражался ретиво, в тенёчке не отсиживался, а заканчивает свою жизнь от болезни как обычный смертный. Я не эскулап, не могу определить на глазок, что его свалило. Чемеричная настойка вкупе с вином, лихорадка, малярия, брюшной тиф, воспаление легких, цирроз печени или стрихнин, который якобы доставили во дворец Вавилона из Македонии в копыте мула. Если верить записям Гиеронима Кардийского, одного из командиров македонской армии, Олимпиада, мать царя, даже на пороге смерти не сомневалась, что ее сына отравили. Однако какая разница, от чего умер Александр? Пытливые и завистливые историки, пытающиеся погреться возле комелька чужой славы, скоры на диагнозы. Им невдомек, что важна сама смерть, а не её причины. А если бы царя сразило копьё? Как сказал Софокл, все мы, живущие на этом свете, лишь призраки или легкая тень. Странно, но обе метафоры относятся ко мне как нельзя лучше.
Мои размышления прерывает гортанный возглас. Вздрогнув, поднимаю глаза. Очнувшийся Александр взирает на меня с недоумением, в глазах явственно проглядывает страх.
– Ты пришел меня убить?
Голос царя слаб, он с трудом выталкивает из себя слова, будто каждое весит больше пуда.
Вспоминаю бывшего римского раба Эпиктета, ставшего известным философом среди тогдашних стоиков. Спустя триста с гаком лет после смерти Александра он поделился любопытным умозаключением: «Людей в смятение приводят не сами вещи, но их собственные представления об этих вещах. Например, в смерти нет ничего ужасного, поскольку в противном случае так показалось бы и Сократу. Однако, поскольку мнение о смерти внушает страх, то оно является причиной страха». Комментируя это изречение, другой греческий философ Симпликий спустя четыреста лет отмечал: «Итак, если смерть относится к вещам, находящимся вне нашей власти, то она не может быть злом. А если она есть зло, но не для нашей души, а для тела, то она, пожалуй, для нас вовсе и не зло».
Любопытно, как отнесётся к этим силлогизмам Александр, если я их озвучу. Легко рассуждать о смерти теоретически, будучи в добром здравии. Тот же Эпиктет прожил более восьмидесяти лет, пусть и в беспощадной бедности. По сравнению с ним в смысле продолжительности жизни, Александр – блистательная комета, внезапно вспыхнувшая и скоропостижно сгоревшая. Успокаиваю.
– Вздор. Ты и так скоро преставишься.
– Знаю.
Александр, закрыв глаза, судорожно хватает ртом воздух, пытается совладать с дрожью, завладевшей его телом. Его мучает жажда, он бы осушил до дна даже бассейн, однако диадохи (полководцы Александра Македонского, которые после его смерти военным путем разделили империю), обуреваемые склоками по поводу передачи царской власти, забыли о нем. Я не собираюсь облегчать его муки, дабы не изменить ход истории. Согласитесь, есть что-то логичное в том, что, обладая абсолютной властью, приходится испускать дух в одиночестве. Наполеон заканчивал свои дни под присмотром единственного и верного слуги, а в спальню, где медленно, но верно умирал грозный Сталин, врачи и соратники якобы удосужились заглянуть только утром. Правда, есть версии, что Наполеона травили мышьяком, а Сталина – варфарином, лекарством, разжижающим кровь и способствующим буйному кровотечению, что вполне возможно, но всего лишь доказывает правоту Софокла. В моем вольном переводе его фраза звучит так: «Если лев настолько ослаб, что не может шевелить лапами, почему ранее раболепствующие соперники должны с ним по-прежнему считаться?».
– Зачем ты здесь?
Александр, повернув голову набок, пытливо вглядывается в меня. Этот вопрос мне наскучил, его так часто задают, что непременно обрадуюсь, когда кто-нибудь, например, поинтересуется, играю ли я в шахматы. Но почему-то такой вопрос мне не задают. Могли бы поинтересоваться, предсказываю ли я судьбу. В отличие от гадалки, мне доподлинно известна дата смерти той или иной личности.
– Хочу узнать, каково быть захватчиком, погубившим на пути к славе собственное воинство.
Царь досадливо морщится. Слово «завоеватель» ему наверняка ближе к сердцу. Поход Александра в Индию, из которого, если верить Плутарху, из ста двадцати тысяч пехотинцев и пятнадцати тысяч всадников возвратились менее четверти, выглядит авантюрой. Следует учитывать, что тогда гражданами Древнего Рима считались только те жители, которые имели право на земельную собственность, участие в политической жизни (избрание должностных лиц и принятие законов) и защите родных рубежей. С этой точки зрения, потери Рима были катастрофическими.
Тот же Арриан, питающий к царю небывалое почтение, пишет, что у индусов золота не было вовсе, и жизнь они вели вовсе не роскошную. Уговаривая войско продолжить наступление вглубь Индии, Александр упрекнул: «Что совершили бы мы великого и прекрасного, если бы сидели в Македонии и считали, что с нас хватит и спокойной жизни: охранять свою землю и отгонять от нее соседей». На что сын одного из командиров вполне резонно возразил: «Царь, если что хорошо, так это смирение в счастье. Тебе, такому вождю, ведущему такое войско, нечего бояться врагов, но божество может послать нечто неожиданное, и человеку тут остеречься невозможно».
Александр, застонав от боли, изрекает:
– Я оставляю после себя громадную и богатейшую империю.
Другого ответа я и не ожидал. Историк и нравоучитель Валерий Максим через триста шестьдесят лет после смерти Александра заметил, что тот «в завоеваниях владений искал себе славу, которая вмещала бы в себя всех богов».
Размышляю, огорчить ли царя сообщением, что основанное им царство диадохи разорвут на куски, или оставить в милосердном неведении, ведь после такого известия запросто могу ускорить его неминуемую кончину и тем самым нарушить добровольно взятое на себя обязательство не вмешиваться в историю человечества. Тяжко бороться с искусом осведомленности, так и тянет порой огорчить самодержцев, князей, королей, президентов или султанов неприятным известием – поведать о том, что все их потуги на величие рассыплются в прах, как только они протянут ноги.
Вздрагиваю от внезапного смеха. Александр, хихикая, тычет пальцем в стену позади меня.
– Я разгадал тебя, чужеземец. Ты – не человек!
Оглядываюсь. Стена из светло-желтого кирпича украшена бирюзовой изразцовой плиткой с изображением сирруша – диковинного зверя из разряда драконов, с узким чешуйчатым туловищем, змеиной головой (из затылка торчит рог, а из пасти вырывается раздвоенный язык), с тонким задранным хвостом и необычными лапами: передние как у пантеры, а задние – орлиные. Бывший хозяин дворца Навуходоносор питал к этому фантастическому животному слабость. Сам ли его придумал или расстарался наделенный могучей фантазией придворный живописец, но получилось впечатляюще. У всех, кто впервые попадал во дворец, сирруш неизменно вызывал оторопь и страх, на что и рассчитывал Навуходоносор. Гости приходили к выводу, что с хозяином царства лучше не связываться, может, и в самом деле обзавелся хищником, который проворен, как пантера, и ядовит похлеще змеи. Но чему так радуется Александр? Дворец напичкан изображениями сирруша.
В недоумении оборачиваюсь к царю. Он торжествующе поясняет:
– У тебя нет тени.
Александр поднимает руку, на стене появляется ее размытая тень от горящей лампады. Я одобрительно киваю, приятно удивленный тем, что царь, даже будучи на пороге смерти, не потерял здравости рассудка и наблюдательности.
– Ты уже решил, кому оставишь царство? – деловито интересуюсь я, памятуя о том, что Арриан написал, будто царь на этот вопрос ответил: «Наилучшему» и якобы добавил: «Вижу, что будет великое состязание над моей могилой».
– Я получил Македонию от своего отца, Роксана на сносях, если родит сына, он и унаследует империю.
Резонно, хотя Александр зря не вспоминает о второй законной жене, я бы на его месте заранее предупредил обеих потенциальных вдов, кто из них главная, поскольку обе – чужестранки и обладают равными правами. Александр, как и его покойный батюшка, к женщинам относится потребительски. История с его женами банальна и поучительна. Македонцы взяли штурмом крепость вождя бактрийского племени Оксиатра и пленили его жену и дочерей. Неизвестно, сколько Оксиатр наплодил дочек, но одна из них, девственница по имени Роксана, поразила Александра красотой (древние историки называют её непревзойденной красавицей Азии). Как пишет Арриан, царь—захватчик влюбился в неё с первого взгляда, и «хотя она была пленницей, отказался из-за страстного влечения к ней взять её силой и снизошел до женитьбы».
Через четыре года Александр разгромил персидского царя Дария и женился на его старшей дочери Статире. В обоих случаях полководец исходил из прагматических соображений: нет лучшего способа подружиться с бывшим врагом, чем стать его ближайшим родственником. Однако Александр в силу мужского эгоизма не принимал в расчет, что государственная политика и женская ревность несовместны.
Смотрю на него и думаю, зря некоторые правители пользуются правом многоженства. С увеличением отпрысков множатся предпосылки для распада государства. Как пишет Плутарх, Роксана страстно возненавидела соперницу, заманила Статиру и её сестру к себе, расправилась с обеими и выбросила трупы в колодец. Однако поплатилась за это с лихвой: спустя многие годы её убили вместе с четырнадцатилетним сыном, который так и не стал преемником удачливого отца.
Не исключаю, что Александр не воспринимал женщин всерьез, включая собственных жен. Он относился к ним как к приятному времяпрепровождению. Об этом свидетельствует Плиний Старший. В книге «Естествознание» есть сюжет о художнике Апеллесе. Его работы нравились Македонскому. Если верить Плинию, в живописи Апеллеса «было особенное очарование», у художника «была вообще постоянная привычка никогда не проводить ни одного дня, как бы он ни был занят, без того, чтобы не совершенствовать свое искусство». Художник «выставлял на балконе законченные произведения на обозрение прохожим, а сам, скрываясь за картиной, слушал отмечаемые недостатки, считая народ более внимательным судьей, чем сам». Какой-то сапожник высказал неодобрение по поводу одной сандалии, художник сделал на ней меньше петель. На следующий день этот же сапожник, гордясь исправлением, сделанным благодаря его замечанию, стал насмехаться по поводу голени. Апеллес «в негодовании выглянул и крикнул, чтобы сапожник не судил выше сандалий, и это тоже вошло в поговорку». Апеллес знал себе цену. «Когда Александр в мастерской пускался в рассуждения о том, в чем не разбирался, он вежливо призывал его к молчанию, говоря, что над ним смеются мальчики, которые растирают краски». Но суть не в этом. В знак уважения к таланту художника Александр повелел ему «написать обнаженной из-за поразительной красоты особенно им любимую одну из своих наложниц, по имени Панкаспа». Во время работы Апеллес по уши влюбился в девушку, Александр это заметил и великодушно подарил её художнику. Как пишет Плиний, этим поступком Македонский «победил самого себя, подарил художнику не просто свою наложницу, а любимую женщину, не посчитавшись даже с возлюбленной, она ведь до этого принадлежала царю, а теперь стала принадлежать живописцу».
Согласитесь, великодушие Александра не имело границ. Тем не менее имена его жен – Роксаны и Статиры – даже через триста лет пользовались необыкновенной популярностью. Например, так назвал своих дочерей Митридат, царь Понта (греко-персидское государство в Малой Азии на южном берегу Черного моря). Правда, счастья им это не принесло, обе досидели в девицах до сорока лет и покончили с собой, приняв яд.
Продолжая беседу, я указываю Александру на его очевидный просчет:
– Роксана может произвести на свет девочку, да и вообще не разрешиться от бремени по независящим от нее обстоятельствам.
Александр молчит, на его глаза наворачиваются слезы.
– Эх, Гефестион, – с болью еле слышно произносит он и отворачивается.
Я его понимаю. Если бы восемь месяцев назад Гефестион, преданный друг, блистательный военачальник, правая рука царя и потенциальный преемник, внезапно не скончался от непонятной хвори, нынешний разговор не имел бы смысла. По словам Плутарха, тяжело заболевший Гефестион, «человек молодой и воин, не мог подчиниться строгим предписаниям врача и однажды, воспользовавшись тем, что врач его Главк ушел в театр, съел за завтраком вареного петуха и выпил большую кружку вина. После этого он почувствовал себя очень плохо и вскоре умер». Неутешный царь приказал в знак скорби не только обрезать гривы лошадям и мулам, но и снести зубцы крепостных стен.
В отличие от Плутарха, о том, чем занимался Александр после кончины закадычного друга, более подробно и добросовестно пишет Арриан. Философ утверждает, что горе царя было велико, однако многочисленные свидетельства очевидцев нелепы и противоречивы: упав на труп друга, так и пролежал, рыдая, большую часть дня; обрезал над трупом свои волосы; повесил врача за плохое лечение дражайшего пациента; велел сравнять с землей храм Асклепия в Экбатанах. Борзописцев можно понять: если царь замкнулся в себе и весь день отказывался от еды, храня скорбное молчание, то это выглядит по меньшей мере примитивно. Куда эффектнее отобразить его шизофреником.
Спустя более двух тысяч лет другие бумагомараки, ориентирующиеся на собственные плотские пороки и не имеющие никаких оснований и фактов, предположат, будто Александра и Гефестиона связывали не только узы дружбы. Они подло отвергли свидетельство Плутарха: «Однажды Филоксен, командовавший войском, стоявшим на берегу моря, написал Александру, что у него находится некий тарентинец Феодор, желающий продать двух мальчиков замечательной красоты, и осведомлялся у царя, не хочет ли он их купить. Александр был крайне возмущен письмом и не раз жаловался друзьям, спрашивая, неужели Филоксен так плохо думает о нем, что предлагает ему эту мерзость. Самого Филоксена он жестоко изругал в письме и велел ему прогнать прочь Феодора вместе с его товаром. Не менее резко выбранил он и Гагнона, который написал, что собирается купить и привезти ему знаменитого в Коринфе мальчика Кробила».
Современным историкам невдомек, что проверенная в гибельных схватках мужская дружба куда крепче плотской любви.
Никто не знает, где похоронен Александр (мне это место известно), зато в его честь установлено немало памятников. Мне по сердцу тот, который стоит в Салониках на берегу моря. Александр восседает на своем любимом и верном Буцефале. У царя в правой руке меч, а колени крепко прижаты к крупу коня, тот в стремительном галопе задрал передние копыта, его пышный хвост развевается на ветру. Мне возразят, дескать, памятник в Скопье, столице Македонии, ничем не хуже, композиция та же, разница лишь в том, что в первом случае царь руку с мечом отвел в сторону, а во втором задрал к небу. Да и монумент в Александрии, где Буцефал несется рысью, а царь вместо меча держит в правой руке фигурку Ники, также красив и величественен. Как по мне, первый монумент воздушен и настолько убедителен, что дух захватывает, а второй и третий несколько тяжеловесны и приземлены, нет в них свойственной царю бесшабашности. Жаль, что он не прислушался к своему учителю Аристотелю, который считал, что смысл жизни – служить другим и делать добро. Переговорщик, будь его воля, таких удачливых и тщеславных вояк, как Македонский, внедрял бы во все племена и народы через каждые пятьдесят лет, чтобы с удовольствием наблюдать, как они лихо истребляют друг друга. Может, спросить царя о самом светлом и счастливом дне его жизни?
Поднимаю глаза. Поздно. Александр уже перебрался в лодку мрачного молчаливого Харона и отправился в свой последний поход по кипучим волнам Стикса. В уголках широко открытых карих глаз блестят слезинки. Вскоре они высохнут, никто не узнает, что в последние минуты жизни жестокосердный царь плакал, горюя не о жёнах, а о безвременно умершем друге.
Глава третья. Герострат
Если бы время представляло собой линейную величину сродни подзабытой в эпоху компьютеров логарифмической линейке, путешествие по нему не представляло бы никакой сложности. Передвинул бегунок по шкале в заранее просчитанное место – и ты на острове Пасха, в тот период, когда местные жители истово ваяют исполинов. Как бы не так. Почему вы решили, что окажетесь на искомом острове? Земля огромна, не исключено, что попадёте в объятия султана ас-Салиха Айюба, разгромившего крестоносцев, или угодите в Египет, чтобы вкусить плоды очередного государственного переворота. Все дело в особом пространственно-временном факторе, пренебрегать им не следует.
Человеческая память напоминает склад, заваленный в беспорядке всевозможным товаром. Попробуйте найти нужные вещи, если не знаете схему их размещения и принципы расположения на стеллажах и полках. Любой человек не раз сталкивался с так называемым ускользающим воспоминанием. Это может быть то или иное событие или, например, знакомое лицо, которое он где-то видел. Мучается имярек, злится и проклинает себя за дырявую память. Между тем никаких провалов в ней нет, в мозге хранится вся информация начиная с рождения человека, только доступ к ней затруднён. В какой—то мере своеобразным компенсатором может стать личный дневник. Если вы десятки лет систематически отражали в нем чувства, мысли и события, то, прочитав ту или иную запись, с легкостью восстановите мельчайшие подробности конкретного периода своей жизни. Не пренебрегайте ручкой и блокнотом, они удлинят вашу жизнь. Её продолжительность определяется количеством полученных впечатлений, а не прожитыми годами.
С большой натяжкой дневником человечества можно назвать публичные библиотеки. Забудьте об Александрийской, она окончательно утрачена (впрочем, не совсем, но выдавать местонахождение уцелевших двадцати тысяч экземпляров я не собираюсь), гораздо нагляднее выглядит хранилище книг конгресса США в Вашингтоне, насчитывающее более ста пятидесяти миллионов наименований. Оно состоит из трех зданий, только в одном насчитывается двести девяносто километров стеллажей. Если вы зайдете в это хранилище, не имея представления, где находится искомое произведение, то потратите уйму времени, чтобы его найти. Тут и скажется пространственно-временной фактор, о котором я упоминал, ибо вам придется часами бродить по длинным коридорам, нагибаться, взбираться на стремянку меж стеллажей. К счастью, есть библиотечный каталог, а также опытные сотрудники, готовые разыскать и вручить вам нужный экземпляр.
Зачем я объясняю эти прописные истины? Для меня перемещение во времени и пространстве, несмотря на искушенность, выглядят совершенно не так, как вы это себе представляете, приходится учитывать множество факторов, включая географические координаты. Системами глобального позиционирования не пользуюсь, поскольку они в отношении прошлого бесполезны. У меня нет под рукой ни одного гида, зато есть собственный каталог истории человечества, однако ошибки (курьезные и досадные) все же случаются. Учитывая их, я не спешу покинуть ту или иную эпоху, если в ней помимо главного персонажа присутствует другой, пусть и не столь заметный, но не менее любопытный. Я уже упоминал, что в числе прочих моих задач – развенчание мифов. А потому решил встретиться с Геростратом, который якобы сжёг храм Артемиды в Эфесе.
У древних философов нет мнения относительно обмана как такового. Платон, хоть и с оговорками, приемлет полезное враньё: «Уж кому—кому, а правителям государства надлежит применять ложь – как против неприятеля, так и ради своих граждан, ради пользы своего государства, но всем остальным к ней прибегать нельзя. Если частное лицо станет лгать собственным правителям, мы будем считать это таким же – и даже худшим – проступком, чем ложь больного врачу».
Аристотель признаёт, что «обман сам по себе дурен и заслуживает осуждения», но вослед Платону допускает ложь во спасение. Если тиран заточил в темницу супружескую пару и требует выдать местонахождение сына, то почему бы им и не соврать.
Цицерон категорически против несправедливости и придает ей юридическую окраску. Философ указывает, что обман свойственен лисице, а насилие – льву. «И то и другое совершенно чуждо человеку, но обман более ненавистен». В то же время он увязывает нравственность с полезностью. Ложная клятва пирату – не повод каяться в проступке.
Их громит Иммануил Кант в эссе «О мнимом праве лгать из человеколюбия». Он утверждает, что «ложь всегда вредна кому-нибудь, если не отдельному лицу, то человечеству вообще, ибо она делает неприменимым самый источник права». По мнению Канта, «тот, кто лжет, какие бы добрые намерения он при этом ни имел, должен отвечать даже и перед гражданским судом и поплатиться за все последствия».
«Правдивость есть долг, который надо рассматривать как основание всех опирающихся на договор обязанностей, и стоит только допустить малейшее исключение в исполнении этого закона, чтобы он стал шатким и бесполезным». Кант непреклонен: правдивость – «священная, безусловная повелевающая и никакими внешними требованиями не ограничиваемая заповедь разума». По его словам, «долг говорить правду» – безусловный, независимый от личности. Особенно мне нравится следующее высказывание Канта: «Не право к политике, но, напротив, политика всегда должна применяться к праву».