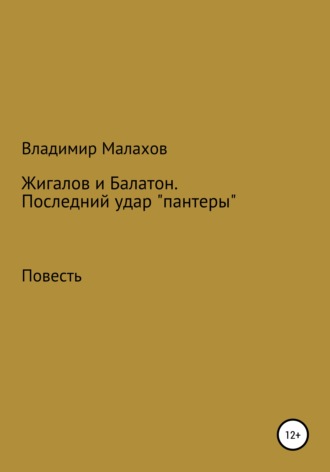
Жигалов и Балатон. Последний удар «пантеры»
Прибывали все новые и новые ветераны, от звона множества медалей исходил мягкий мелодичный звук. Особо шумной была группа, которая стояла ближе всех к крыльцу Дома культуры. Подойдя ближе, Жигалов увидел обилие орденов: Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени. «Это мужики серьезные» – мелькнуло в голове Жигалова. Вновь подошедшие определялись, куда им подойти, здоровались, обнимались. Были и такие, что просто стояли, по трое. Иван Егорович встретил своего соседа, дядю Сережу Андреева, скромнейшего человека с изуродованным лицом без одного глаза.
Историю дяди Сережи Жигалов знал. Дело в том, что на фронте он не был, ушел добровольцем, направили его в артиллерийское минометное училище в Красноярск. Спустя три месяца при учебных стрельбах произошел несчастный случай: разорвало миномет, двое курсантов погибли, а Андреев почти год пролежал в госпиталях, потом его комиссовали. Иван Егорович каждый год видел, как сосед в День Победы сидел у себя в садке один, пил водку и плакал, сильно переживал непонятное положение.
– Мы ведь там, в училище, как дистрофики ходили, у ребят голодные обмороки случались, – рассказывал Андреев, – кинули мину в ствол, она не сработала, осталась в стволе, а мы уши руками закрыли и не заметили, думали она улетела, и кинули туда вторую, произошел взрыв прямо в стволе, миномет разорвало…».
Неизвестно, сколько бы таких праздников Победы было бы у дяди Сережи, но однажды к нему пришел один из самых уважаемых в городке фронтовиков, полковник Лукьянов, и сразу от калитки заявил:
– Так, Серега, чтобы на девятое мая с нами был в общем, так сказать, строю!
Андреев хотел что-то возразить, но полковник шутливо скомандовал:
– Молчать! Ранение ты тяжелое получил? Получил. Год по госпиталям провалялся? Было? И друзей потерял! Вот и должен ты с нами за одним столом сидеть.
– Да я немцев только пленных видел, – робко возразил Андреев.
Полковник призадумался и произнес:
– Друг у меня есть под Новосибирском, Герой Советского Союза, между прочим, так вот он тоже за всю войну ни одного фашиста не видел, а знаешь почему? В дальнобойной артиллерии воевал. В один прекрасный момент разведка доложила о большом скоплении немцев, им дали координаты, и они до дивизии врагов уничтожили. За что и были представлены к высоким правительственным наградам, – полковник раскатисто захохотал, потом опять сделался серьезным. – Или вот председатель районного Совета ветеранов войны Романец, знаешь такого? – Андреев кивнул. – Так вот он всю войну в Омске в учебном батальоне прослужил, – кадры готовил для своей дивизии. Дивизия-то боевой путь прошла от Москвы до Берлина, и номер этой дивизии у Романца в военном билете записан, не подкопаешься. Пригласил его как-то первый секретарь товарищ Ховченко и спросил, где он воевал, Романец соврать ему не посмел, рассказал все честно. Потом попросил освободить его от должности. Ховченко сказал, чтобы тот работал и дальше, но за стол с фронтовиками никогда не садился. Вот такие дела, Серега…
И уже собравшись уходить, добавил:
– Как старший по званию приказываю – праздник Великой Победы праздновать вместе с другими! Понял? А у кого вопросы будут, ко мне отправляй, объясню!
Жигалов, находясь за живой изгородью из черемухи, слышал весь этот разговор и теперь смотрел на скромно стоящего у крыльца дядю Сережу. «И все равно он стесняется», – подумал Иван Егорович, подошел и нарочито громко сказал:
– С праздником, с Днем Победы, товарищ артиллерист-минометчик Андреев.
– Спасибо, Ваня, – сосед опустил голову.
– У кого-то война медалями на груди написана, а у тебя она на лице расписалась, да таким почерком, что ни с чем не перепутаешь, – крепко пожимая руку Андрееву, закончил разговор Жигалов. И тут увидел Макарычева-Балатона, тот размеренно прохаживался среди ветеранов, в своем неизменном наряде, выцветшем темно-синем плаще и белой кепке. «Этот что здесь потерял?» – подумал участковый. Пригласили всех пройти в зал. Люди начали шумно рассаживаться, причем так же группами, как и стояли на улице. Хор грянул «Вставай, страна огромная…», звучали поздравительные речи и вот, наконец, стали вручать ордена, согласно списку, по алфавиту. Ведущий называл фамилию, ветеран выходил на сцену, военком вручал орден. Награжденные вели себя по-разному, кто-то привинчивал орден и рвался к микрофону со словами: «Наконец-то Родина оценила наши заслуги». Другие тихонько выходили, получали орден и быстро уходили, пряча его в карман. Обстановка в зале становилась нездоровой, люди шумели, о чем-то спорили друг с другом, раздались выкрики:
– Что ж вы всех под одну гребенку-то?
– Неправильно это!
Страсти немного поутихли, когда на сцену стали приглашать орденоносцев и вручать им ордена первой степени «в золоте», тогда как всем остальным вручали ордена второй степени «в серебре». По алфавиту дошла очередь до Романца, ему как председателю Совета ветеранов военком также выхлопотал Орден Отечественной войны первой степени в золоте. Когда ведущий объявил об этом, в зале наступила гробовая тишина. «Вот сейчас кинь спичку, и зал взорвется», – успел подумать Жигалов.
– И как ты, Романец, носить-то его будешь? – в тишине раздался голос старика Макарычева, который стоял у стены, держась за батарею. – Он же дырку у тебя на груди прожжет. Такими орденами посмертно награждали, – и повернувшись к выходу, напоследок крикнул: Устроили тут балаган!
«А вот и спичка», – мелькнуло в голове Ивана.
Ему и самому эта процедура не нравилась. Зал взорвался, загудел, даже слышен был отборный мат, человек пятнадцать встали и ушли вслед за Балатоном. Ушли, шумно ругаясь, кто-то из уже получивших награду, клал свой орден на край сцены, среди них Жигалов заметил и своего соседа Андреева. Дядю Сережу было искренне жаль. «Вот Балатон, вот сволочь! Праздник людям испортил! Ну ничего, я до тебя доберусь!» – негодовал Иван Егорович.
Обстановку попытался разрядить небезызвестный Анашкин, который выскочил на сцену с баяном и резанул марш Семёна Чернецкого «Вступление Красной Армии в Будапешт». Романцу стало плохо, ему вызвали скорую, когда его выводили под руки, он, держась за сердце, все повторял: «Мне же положено, меня же государство наградило!»
Пытались было продолжить награждение, но на сцену люди выходить не хотели. Поняв, что ничего не получится, военный комиссар района сделал заявление: «Всем остальным ордена будут вручены через сельские Советы и через военкомат» и тоже ушел. Потом начался концерт, но оставшиеся в зале, казалось, смотрели не на сцену, а себе под ноги и тихонько расходились.
Утром следующего дня всех работников милиции, которые присутствовали на этом мероприятии, во главе с начальником, подполковником Гончаруком, вызвали в райком партии, где они получили такую взбучку, что Иван Егорович слег с температурой, а жена, ночью вытирая ему пот, слышала, как он во сне или в бреду говорил: «Убью гада!»
Оправившись от болезни, Жигалов с головой погрузился в работу, которой становилось не меньше. Ведь не одним же Балатоном, в самом деле, заниматься! А тот куда-то исчез и появился только к осени. «У этого старика какое-то звериное чутье на приближающуюся опасность», – подумал Жигалов, вспоминая все свои провалившиеся засады и «операции». Вот и в этот раз он исчез перед опасностью, а она – эта опасность – была! Летом, через месяц после майских праздников, в городке появились двое симпатичных мужчин, с одинаковыми прическами, в одинаковых костюмах и галстуках. Они очень интересовались персоной Макарычева.
– Кто такой? Откуда прибыл? Чем занимается? О чем говорит?
Да и самого Жигалова как будто через стиральную машину пропустили. Выясняли, имея в виду сорванное награждение фронтовиков:
– Почему допустили такое? Почему не пресекли вражеские нападки на заслуженных людей?
«Это Романец донос настрочил», – подумал участковый, а вслух произнес:
– Да не враг он, Макарычев этот, товарищи дорогие, а просто старый выпивоха, а с Романцом у них старые неприязненные отношения.
Те двое переглянулись, записали объяснения Ивана Егоровича, он расписался, на прощание один сказал:
– Вы не обижайтесь, работа у нас такая.
– Ведь мы с вами почти коллеги, – добавил второй.
Когда они исчезли из поля зрения, Жигалов еще долго сидел чернее тучи: «Вот еще с Комитетом неприятностей не хватало из-за этого Балатона, и так выговор по партийной линии схлопотал ни за что». Потом улыбнулся, даже хохотнул: «А ты тоже хорош гусь, грудью встал за Балатона, сдал бы его комитетчикам, и у самого проблем бы поубавилось. Взял бы да сказал, что тот недоволен советской властью!». Потом вновь сделался серьезным. «Нет, это уже подлость, не враг же он на самом деле, воюешь ты с ним и воюй дальше, но только по-честному, по закону, ведь ты же не подлец, Жигалов? А?» – спросил сам себя Иван Егорович.
А старик Макарычев, как будто мысли его прочитал, в благодарность целый год почти никак себя не проявлял. Участковый видел его издалека несколько раз, даже как-то поздоровались, хотя Жигалов часто заходил в парк в надежде встретить там деда Балатона, но тот радости такой ему не предоставлял, или просто не судьба была встретиться. Когда участковый приходил, того уже не было, и наоборот. «Неужели это победа, и война с Балатоном окончена?» – подумал Жигалов, но добровольная помощница Матвеевна опустила его на грешную землю:
– Туточки он, Иван Егорович, Макарыч-то, выпивает, ага, только он уходит минут за десять до того, как тебе прийти, как чует что ли.
– Вот нечистая сила, – ругнулся Жигалов, – чертовщина какая-то, ладно ничего… Мы и с чертовщиной разберемся, вот сейчас сухой закон вышел, я всех на чистую воду выведу, и Балатона тоже.
А вскоре на стол участкового легла бумага, которая повлияла на ход дальнейших событий. Этой бумагой было заявление от директора Дома пионеров Ларисы Ивановны Вороновой, в котором она излагала, что во время занятий авиамодельного кружка пионеры Сидоров и Сахно выражались нецензурной бранью. И когда она учинила им допрос, они рассказали, что, гуляя по парку, они увидели старика с шахматной доской, вежливо попросили у него шахматы, на что тот ответил: «Повторите за мной эти слова, тогда дам». Дети повторять не стали, но слова запомнили. Далее Лариса Ивановна просила принять меры и оградить детей от пьяного матерщинника. «Вот это уже документ, – подумал Жигалов, – теперь мы по-другому поговорим». Хотя, что делать с этим заявлением, он не знал, несмотря на большой стаж работы. Доказательств, что тот был пьян, нет, да и процедуру опроса детей, даже в присутствии родителей, он представлял себе слабо. «Вот встречаемся мы с детьми и заставляем их произносить нецензурную брань в присутствии родителей и работников милиции… Гмм, так и самому под статью о развращении малолетних загреметь нетрудно», – размышлял Иван Егорович. Поэтому при первой же возможности зашел он к начальнику милиции Гончаруку и изложил все свои опасения, а также честно рассказал о своей давней войне с Балатоном. Гончарук внимательно выслушал:
– Это тот самый Макарычев, который год назад сорвал вручение орденов?
– Так точно, – ответил Жигалов.
Гончарук внимательно перечитывал заявление из Дома пионеров, даже зачем-то посмотрел его на свет, как будто пытаясь найти в нем что-то еще, чего не было на поверхности, поднял трубку:
– Дежурный, соедини меня с Домом пионеров! Выждав несколько секунд, продолжил: – Алло, Лариса Ивановна, здравствуйте! Начальник милиции Гончарук беспокоит. Вот сидим с капитаном Жигаловым, изучаем ваше заявление, вы пишите, что Макарычев, или как вы его называете Балатон, был пьян. А у вас есть взрослые свидетели? Не надо кричать, я понимаю, что трезвому человеку такое в голову не придет. Значит, свидетелей нет. Понятно. А теперь наберитесь мужества и скажите, какие слова произносили пионеры? Лариса Ивановна, это нужно для пользы дела, мы же с вами взрослые люди. Итак, я записываю. «Секеш», «Фехер», – выдержал паузу, подумал, – это какая-то абракадабра. Где тут нецензурная брань? Понял, понял! – и положил трубку.
– Сказала, если не примем меры, пойдет жаловаться в райком партии.
Гончарук встал и, сверкая до блеска начищенными сапогами, поскрипывая портупеей, прошелся по кабинету, подошел к столу, еще раз перечитал заявление:
– Пустышка, – открыв ящик стола, бросил бумагу туда.
– Слушай, капитан, а давай-ка, мы твоего Балатона отправим в лечебно-трудовой профилакторий, в ЛТП значит, там алкоголиков принудительно лечат?
Такого поворота событий Жигалов не ожидал:
– Старый он, под семьдесят уже, я в собесе узнавал, он пенсию получает как участник войны.
Начальника милиции эти слова нисколько не смутили:
– Лечиться никогда не поздно, а насчет участника войны ты характеристику возьми у этого, как его, Романца. Я думаю, он его охарактеризует как надо. И сделай официальный запрос в военкомат, на всякий случай, – подумав, добавил: После войны у нас, говорят, все тюрьмы фронтовиками забиты были.
– Есть! – ответил Жигалов. – Разрешите идти?
– Постой, – Гончарук достал какой-то документ, – вот разнарядка пришла, в рамках «сухого закона», к концу месяца надо отправить на излечение в ЛТП десять человек. Подключайся. Два раза пьяного встречаешь, составляешь протоколы, на третий под белы рученьки и поехали трудом лечиться. Режим содержания лагерный. Все понял?
– Так точно!
– Я тут твое личное дело смотрел, – продолжал Гончарук. – У тебя отличный опыт в таких делах есть. Все. Свободен.
Жигалов вышел в скверном настроении. «Опыт у тебя есть, – передразнил он начальника, – одно дело уголовщину на место определить, в лагеря, и совсем другое мужиков, работяг за пьянку в те же лагеря отправить».
Что поделать, служба есть служба, и Иван Егорович начал работать. Протоколы, объяснения, показания. Старался в списки свои вносить людей возрастом постарше, которым в его понимании терять было уже нечего. Молодых тоже оформлял, но откладывал в отдельную папку, ведь после ЛТП человека на хорошую работу не возьмут. Это как «черная метка», алкоголик, даже излечившийся, никому не нужен. Поступая так, участковый думал, что он дает людям шанс, возможность исправиться. А старому выпивохе Балатону он, Жигалов Иван Егорович, такого шанса не даст. В сумке у него уже лежат два протокола за его нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Причем подписал их старик Макарычев, не читая, не проронив ни слова, как бы даже безучастно, вроде дело касалось не его – Алексея Егоровича Макарычева, а кого-то другого, совершенно незнакомого ему человека.
До назначенного Гончаруком срока оставался один день. Документы были все оформлены должным образом. Работу свою участковый выполнил качественно, дела кандидатов на отправку в лечебно-трудовой профилакторий были прошиты и пронумерованы, кроме одного…
Иван Егорович, войдя на территорию парка, поймал себя на мысли, что ему очень не хочется вновь встретиться с дедом Балатоном. «Хоть бы его тут не было, – душу терзали сомнения, – зачем это ему, старику, нужно, а с другой стороны, ты, Жигалов, выполняешь приказ начальника милиции Гончарука, – Иван Егорович остановился даже. – Опять же, кто Гончарука подвел к этому решению? Ты и подвел! Ладно, будь что будет, – и пошел дальше». Старик Макарычев сидел на своем, полюбившемся ему за многие годы, месте. Было видно, что он уже изрядно выпил:
– Гражданин Макарычев, – начал было Иван Егорович.
– А, это ты, капитан, – грубо оборвал его Балатон, – давай, где подписать! «Что ж, видать судьба», – подумал участковый и начал составлять третий за месяц, роковой для Макарычева протокол.
СТАРИК БАЛАТОН
Начальник милиции Александр Леонидович Гончарук, так же, как и Жигалов, любил свою работу, но любил он ее по-особенному. Ему нравились дисциплина, субординация, военная выправка. Он, собственно, и был из военных, закончил училище, дослужился до капитана в мотострелковой части, а потом медицинская комиссия признала его негодным к строевой службе, что-то с сердцем было не так, и партия направила его на службу в органы внутренних дел, вскоре он получил звание майора, а уже два года как ему присвоили подполковника милиции. От подчиненных он требовал исполнения Устава:
«Разрешите обратиться, разрешите идти, разрешите доложить»! Поначалу даже требовал, чтобы милиционеры честь друг другу отдавали, потом понял, что это перебор. Заступив на должность начальника милиции, Гончарук приказал отключить у себя в кабинете прямые телефоны, и с внешним миром, в отличии от простодушного Лопатина, он общался через дежурного и только через доклад.
Одет Гончарук был всегда с иголочки, хотя все в отделе ходили в брюках обычного покроя и ботинках или туфлях, начальник милиции круглый год надевал галифе и идеально начищенные хромовые сапоги. Всегда, до синевы на лице, выбрит и перетянут портупеей. Звездным часом подполковника был День советской милиции, когда на центральной площади, возле памятника Ленину, выстраивался весь отдел в парадной форме, все стояли по стойке «Смирно» перед ним, боясь пропустить хоть одно слово:
– Товарищи, поздравляю вас с годовщиной советской милиции!
– Ура! Ура! Ура!
– Равняйсь, смирррр-но, на-ле-во, шагом арррш!
Гончарук подавал команды, а сам наслаждался своим голосом, а потом медленно проходил вдоль строя, вглядываясь в лица, в глаза подчиненных. Потому что подполковник в душе считал себя психологом, даже устраивая разносы сотрудникам, не справляющимся, по его мнению, со своей задачей, он всегда всматривался в глаза. Этот злится, этот напуган, этот обижается – определял почти безошибочно и делал выводы, даже записи вел. Каждое утро к нему по очереди заводили мелких правонарушителей, задержанных накануне. Начальник милиции сам определял размер штрафа или исправительные работы, при этом он проводил с ними те же процедуры: беседует с человеком, строжится, даже на крик переходит, а сам в глаза ему смотрит, наблюдает, раскаивается тот или нет. Хулиганы и дебоширы, а иногда и милиционеры не могли понять, почему за одинаковые нарушения были такие разные наказания. Вот и в этот раз, посмотрев дела, составленные Жигаловым для отправки людей на принудительное лечение от алкоголизма, Гончарук решил побеседовать с каждым персонально. В назначенный час всех собрали в коридоре возле кабинета начальника:
– Дежурный, заводи по одному!
Несколько человек воспринимали все спокойно, видимо, сами понимали, что нуждаются в лечении, один оказался шумным, даже прокурором пугал, а потом начал плакать, умолять, говорил, что ни капли больше не выпьет.
– Типичный алкоголик, – произнес находящийся здесь же Жигалов, – психика нарушена, а затем громко крикнул: Дежурный, уводи, давай следующего.
Гончарук внимательно рассматривал входящего в кабинет пожилого мужчину. Он был одет в синий, с большими потертостями, длинный плащ и белую кепку, а также в широкие, по моде пятидесятых годов, брюки и ботинки на манер офицерских. Под мышкой у него была шахматная доска. Взгляд подполковника остановился на старой, но чистой одежде и отглаженных брюках старика.
– Гражданин Макарычев Алексей Егорович? – начал Гончарук. – Тысяча девятьсот восемнадцатого года рождения?
– Он самый, гражданин подполковник, – ответил старик.
– За последний месяц вы три раза задержаны в пьяном виде, о чем есть соответствующие протоколы…
«Что нужно от меня этому подполковнику? – думал Макарычев, – он очень похож на начальника особого отдела дивизии подполковника Фисенко, тогда, в августе сорок третьего».
И как наяву возникло:
– Отвечайте, Макарычев! Почему вы покинули боевую позицию? – задал вопрос Фисенко.
– Товарищ подполковник, – начал, было, Леха, но Фисенко его грубо прервал
– Я вам не товарищ, Гитлер вам товарищ, потому что вы трус и паникер! Ясно? Обращайтесь ко мне гражданин подполковник!
– Ясно, гражданин подполковник.
– Не ясно, а так точно, – взорвался Фисенко, потом, немного успокоившись, продолжал, – передо мной показания рядового Балтабоева Шухрата, который поясняет, что огневую позицию вы – весь расчет противотанкового орудия, покинули по приказу старшего сержанта Бабыни. Так, я вас спрашиваю?
«А вот тут хрен тебе, товарищ дорогой, чтоб Шурка на Бабыню, своего командира, показания дал, тут ты явно перегнул», – подумал Леха, а вслух сказал:
– Гражданин подполковник, ведь он же узбек, по-русски плохо понимает. Бабыня отправил его, меня, а также рядового Деревянко за снарядами.
– Ты из меня дурака-то не делай! – взорвался опять Фисенко, – под трибунал пойдете все!
В это время дверь в кабинет шумно раскрылась и вошел начальник артиллерии армии полковник Ермолаев, доли секунды оценив обстановку он громко произнес:
– Боец, свободен.
– Товарищ полковник, – привстал Фисенко, – я бы вас попросил…
– Свободен, я сказал! – и крепко так саданул рукой по столу.
Леха посмотрел на Фисенко, тот опустил глаза. Еще раз повторять было не нужно, и он пулей вылетел из кабинета, но не смог удержаться и метрах в трех от двери замер, вслушиваясь в каждое слово, доносящееся из кабинета, а там продолжался разговор на повышенных тонах.
– Товарищ полковник, извините, но я вам не подчиняюсь, – мягко возмутился Фисенко.
– А полк, бойцов которого ты пытаешься арестовать, не подчиняется вашей дивизии. Он входит в резерв армии, то есть подчиняется непосредственно мне, ясно!
– Но старший сержант Бабыня не выполнил приказ заместителя командира полка майора Гришина, – не унимался Фисенко.
– Глупый приказ! Гришин приказал пушки установить в чистом поле, еще и в низине, а Бабыня пушки замаскировал, подпустил танки максимально близко и в упор расстрелял. Да… Бабыня, он же поэт, композитор по части истребления танков, он с сорок первого года, с первого дня войны. К нему из соседних полков комбаты, майоры за опытом приезжают, – Ермолаев призадумался, – я его несколько раз пытался на офицерские курсы отправить, отказывается, говорит, что пока последнего фашиста не истребим, никуда не поедет. Вот поэтому у меня старший сержант взводом командует. За Курскую операцию взвод Бабыни восемнадцать танков сжег, из них восемь «пантер». А если бы он подчинился майору Гришину, который, кстати, и не является ему командиром, то через десять минут боя не только его взвода, а от всей батареи следа бы не осталось.
– Что ж, война, потери неизбежны, – уже робко возразил Фисенко.
– А ты сам-то, подполковник, давно на передовой был? – возмутился его словам Ермолаев. – В общем, так! Бабыню освободить из-под ареста немедленно, иначе ты у меня пойдешь на передовую, танки противника уничтожать, вон у тебя пистолет есть, командиром штрафного батальона пойдешь, а? Фисенко? Ты же знаешь у меня с командующим хорошие отношения.
– Я на том участке фронта, куда меня поставила партия, – побледневший подполковник слова эти из себя с трудом выдавил, – а на передовой я побываю в ближайшее время.
Выйдя из кабинета, полковник Ермолаев обнаружил Леху Макара, который с улыбкой до ушей вытанцовывал какие-то движения.
– А ты чего здесь, ну-ка бегом на батарею! – и когда боец растворился, – распустились совсем, подслушал же шельмец, через полчаса вся батарея знать будет. Да ладно, своих в обиду не даем.
Начальник милиции Гончарук продолжал:
– Вот вы сидите в парке, а на вас дети смотрят, – вдруг он понял, что старик его не слышит, нет, не то чтобы не слушает, просто не слышит. Он вроде бы и смотрит на него, на Гончарука, но глаза направлены куда-то внутрь себя. Подполковник вдруг увидел, что и на старика он вовсе не тянет. Шестьдесят девять лет, а морщин особенно не видно, лицо как из камня вытесано, а самое интересное, никаких эмоций абсолютно. Гончарук применил свой излюбленный приемчик возврата внимания собеседника на себя, встал и начал расхаживать по кабинету. Теперь собеседнику волей-неволей нужно было крутить головой за говорящим, но старик переиграл его, опустив голову.
– Какой пример вы подаете молодежи? – сетовал подполковник, слегка задетый поведением Макарычева.
«Как же все-таки он похож на Фисенко, – думал Макарычев, – сапоги вон огнем горят. И опять мысли помчались в прошлое. Комбат Еремин, бывало, устраивая разнос на батарее, так, для виду, конечно, мужик он был незлобливый, всегда заканчивал фразой:
– И смотрите у меня, материальная часть, – он имел в виду пушки, – чтоб сверкала, как у… подполковника Фисенко сапоги.
Комбат Еремин погиб при форсировании Днепра, там половина полка осталась. Фисенко тоже погиб, правда, как-то по-дурацки. После разговора с полковником Ермолаевым он нет-нет, да и выезжал на передовую. Вот и в этот раз приехал, поскольку тишина стояла уже неделю, немцев выбили, плацдарм расширили до уверенности. Полк готовился к эвакуации в тыл для пополнения личного состава и материальной части. Фисенко шел по полю. Солнышко, тишина… И вдруг ему под ноги шальной снаряд крупного калибра, разорвало на мелкие кусочки. Потом нашли разорванную фуражку, портупею и остатки от сапог с ногами. Это и похоронили.

