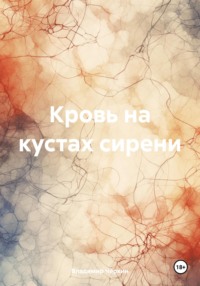Гришка Отрепьев
Мужички, что уносили ноги на конях, попали под разбойничий свист ватажки. Побитые дубьём, не получили боярства…
И до сей поры так и не знают, кто остановил сердце первого избранного царя Бориса Годунова. Остальные были самодуры, которые топтали свой народ. Да какой народ – великий и умный! И любящий Родину…
…В стане Отрепьева всё было тихо. Лишь говорили меж собой шёпотом деревья, качаясь на ветру, словно осуждали разговор Гришки с боярином. Тот сидел в шубе и в шапке. В избе было натоплено. Весна выдалась холодной, потому и топили печку русскую – со всеми загнетками, почурками и подпечками, где торчали ручки рогачей и цапельников. Широкая донница закрывала под и свод печи. В трубе завывал ночной ветер. Вьюшку печи не закрывали – боялись, что царь Дмитрий, не дай Бог, угорит.
– Боярин, – говорил Григорий, – тебе на Москву надо идти! И в первую очередь надо уговорить других преданных тайно мне бояр. А если нет таких, то надо заставить страхом, и Богом их устрашить. Мол, кому служите – шурину царя – убийцы Дмитрия, опричнику в прошлом, который по лютости был злее, чем в ярости пёс?! Много крови они пролили при моём батюшке, невинной…
– Это как сказать!.. Он ведь, когда Великий собор его избрал царём над нами, столько дел сделал!.. Треть Сибири послал воевод завоевать… Сколько городов велел построить!.. Нечего сказать, деятелен был… Да Бог его не возлюбил… Говорят, кару он навлёк великую на землю за грехи наши тяжкие, за дела наши неугомонные… Не по его душе были деланные. Извёл он из Земли центра огонь, и лаву, и пар воды, что были у поверхности. Поднял он в небеси столпы огня, дыма и куски тверди… И климат изменился, и наступил великий глад… Много лет земля, как девка бесплодная, не рожала… Он амбары свои открыл, людей кормил…
– Ну ты, боярин, слишком много хорошего о нём говоришь!.. Смотри, не перекинься на его сторону!.. Уже одно, что он посягал на священное тело отпрыска Иоанна Грозного… Да Провидение спасло меня!.. Я в страхе дрожал, когда поляк глаза рукой мне закрывал, чтоб не видел я столь кровавый миг, когда народ на тревожный звук колоколен ринулся по теремам и расправился с убийцами моими. Видел я, как мать моя била поленом мамку-предательницу… Много лет ждал я своего часу, по монастырям под чужим именем скрывался. Ждал, когда во мне забурлит желание взять трон, мне по праву принадлежащий… Так что скачи и бояр подбей правдой обо мне: мол, настоящий царь идёт в Москву – занять достойное царское место!..
– А что делать с женщинами? Говорят, они вроде свирепы, как по крови Малюты…
– Его дочь красива и умна, хоть нрава дикого… Её не трогать – пред мои очи предстанет…
– Видел я её: красива, хоть и норовиста…
– Норовистая, пока в руки не мальчика, но мужа попадёт!.. Войдём в Москву, сядем на трон, много добрых дел сделаем… Учить детей будем, всех…
– Как – всех? И крестьянских?
– Да, и крестьянских…
– Как – крестьянских?.. Знатные – я ещё понимаю, этих надо учить. Но чтоб сравнять детей боярских с крестьянскими…
– Иди, Пушкин, учить меня тебе негоже… Поспешай!.. Да позови постельничьего, пусть поспешает – ко сну пора мне отходить…
Пушкин вышел:
– Эй, ирод, где ты?.. Иди, царь зовёт немедленно!
– Тут я, иду… Это меня ты назвал «ирод»?! Смотри, я ближе к телу императора!
– Ладно, нам ли собачиться?.. Иди, поспешай, я, что ли, за тебя это дело буду делать?!
Через некоторое время послышался стук копыт коня Пушкина. Григорий перекрестился, сказал: «Спаси Господи!..» – то ли себя просил спасти, то ли лихого гонца… Уснул быстро, испив из ковшика кваса постельничьего верного, прежде им пригубленного. Во сне видел Марину. Любил и утешал её необыкновенно! Целовал её – мягкую, податливую, лежал на ней… Позволила… Но любил её неестественно – прижимался к ляжке и просто тёрся… Она, красная, смущённая, жалась к нему, молчала. Оба были сильно смущены. Она – необыкновенным его поведением. А он – боязлив и смиренен. Думал, если кто доложит и грозный шляхтич родовитый по её жалобе потребует к себе, то скажет, что бес попутал, но Бог не допустил совершить грех до венчания… Марина лишь хохотнула, когда он подымался с неё. «Ты чего это?» – спросил он. «А так, ничего!..»
Не знал он, что она уже не девочка. Что давно, более года, прошло с той ночи, когда шляхтич, молодой и красивый, которого она часто видела во сне, при тайной встрече в счастье допустила его до себя… И он запьянил эту девочку: губами сперва целовал яблочки грудей, и она сомлела… Тайна эта была на двоих. И они её берегли. Знали: лихо будет им обоим, если воевода узнал бы про это. Гнев, не только Божий, но и его, обрушился бы на них. Не обручены, не венчаны… А чувства – что чувства?.. На чувство есть нехорошая молва… Как она теперь там поживает? Без него… Её отдадут замуж. И она немного плакала тайно о шляхтиче. Почувствовала после великий почёт и уважение со стороны всех окружающих её поляков.
…А Пушкин мчался к Москве. Копыта его коня привели, в первую очередь, к боярину, ему знакомому. В ворота постучал, не слезая с коня, кнутовищем плётки. Конь ронял клочья пены с тела, словно комки снега, переминался с места на место… Успокоительно провёл по его бархатистой шее ладонью, вытер пот с ладони о гриву коня…
– Кто там?.. – раздался грубый голос.
– Открывай – дорогой гость прибыл!..
– Ночью гостей не бывает! – послышался голос со двора, и загремели раздвигаемые ворота.
– Пушкин, ты?! – удивился хозяин, стоявший рядом с холопом.
– По нынешним временам не принято называть имена… Пошли в дом – дело есть!.. – передал он повод узды холопу. – Ночь какая лунная – хоть иголки собирай!.. Как холоп у тебя – не донесёт?
– Неверных не держу при себе…
– Как вы тут царя Бориса не уберегли?..
– Берегли, да сам он не берёгся… Не мог отличить шампиньона-грибочка от бледной поганки… И вот – результат!.. Сам любил их, жареные на коровьем масле…
– А чем они отличаются? – перебил он его вопросом.
– А пластинами под низом оладушка!.. У шампиньона они – розоватые, а у бледной поганки – белые…
– Что ты друзьям говоришь не то! А белый гриб – тоже белый…
– Так у него вкус и запах не тот! Нос-то есть – должен не только глазам верить, но и носу!
– Много мы отличаем с тобой запахов! Мы, что ли, собаки – те запахами живут, а мы – другой жизнью… Как там Мишка весёлый? Гляжу, друг мой, совсем его брага сгубила…
– Пьёт день и ночь! И знатная знахарка лечила его от алкоголизма, и травой-копытень – до того лечила, что его падучая стала бить! Бабка перешла на грибы-навозники, поила его отваром, и так варили супы… Стал, вроде, не такой падкий на зелье, полегче, но всё равно не отступает от него.
– Приехал я к тебе по важному делу…
Зашли они в дом. Прошли в прихожку.
– Кто в светлице? – Сел на лавку за стол.
– Никого нет – жена в отъезде, у матери с девками, отчалила намедни… Так что один я как перст! Челядь – в челядной. Есть будешь – я кликну?..
– А-а-а!.. – махнул он рукой. – Я к тебе по великому делу! Язык за зубами умеешь держать?
– Бог не обидел – не выпускаю я его до поры до времени…
– Это хорошо… Дело очень важное… Нужны отчаянные бояре, которые явно недовольные отпрыском Бориски.
– Им-то все были недовольны, хоть и кликнул его народ… Но это было когда!..
– А сейчас? Если что, все родовитые пойдут против него?
– Шутка ли дело – родовитые!.. Которые от Рюриковичей род ведут… Бориске подчинялись, а теперь – его сыну… Но сынка его Бог не обидел – зело умом превелик. Карту составил городов и сёл больших… На ней как на ладони линии дорог… Указ создал, чтоб строительства вести много и разумно…
– Ну а бояре как смотрят на это?
– Считают, баловство – карта эта… Да ведь нашим что – родство главное!.. Кто где сидит… Своё место знают, а больше ничего не надо… Что надо – про то думный дьяк знает!
– Вот что: моего знает и любит народ… Ты знаешь, сколько у нас войска?
– Если много, то чего бояться наследнику? Пусть идёт в Москву, примем с почётом и уважением. А их – куда следует…
–Э, не то говоришь! Так политические дела не делаются… Есть у тебя бояре надёжные, которые недовольны выборным царём?
– А кто когда был доволен властью?! Если одни довольны, то другим это не по нутру…
– Вот ты и найди завтра мне людей, коим царь не по нутру! И обязательно – бояр.
– А почему бояр? Что, на Москве нет лихих людей?
– Лихих людей челядь не пустит! А бояр пустит, потому что привыкли головы к долу клонить перед барином! Не только дубину поднять, но и взгляд не подымут…
– Это ты прав – наш народ любит перед шапками высокими падать на колени… А кто же из бояр носит на голове не ведро меховое, а подобие шапки Мономаха из меха – знак того, что приближены к царственной короне?.. Вот они и сделают дело злодейское, но великое. Удушат их…
– Кого?
– Сына и мать.
– А сестру?
– Её не трогать! Так велел царевич… А на трон возведём его! Нам он отплатит чинами, и к нему приблизимся. Были худородные бояре, а стали шапки Мономаха носить, в золотом водопаде купаться!..
– Да, оно так… Только кто пойдёт на этакое злодейство? Хотя сейчас лихие времена… Много голодных, сирых и обиженных.
– Только не бояре! – заметил Пушкин. – Пусть платят за настоящий царственный венец!..
– Сделаем! Да…
…На второй день в терем к царю Фёдору шли пять бояр. Один из них был нетрезвый. Один из челяди на ступеньках встал на пути.
– Прочь с дороги!.. – крикнул один из бояр. – Дела государственные решать будем! Дело не ждёт…
Тот уступил дорогу. Второй стоял, ждал. Боярин его тычком в зубы убрал с дороги. Остальные разбежались.
Вошли к царю, он стоял над картой на столе. Повернулся к вошедшим:
– Как смели?!
– Смели! Смели!.. – сказал один из пришедших.
Зашёл сзади из-за стола, когда тот стоял и ждал, что скажут бояре. Сзади накинул кушак, резко дёрнул молодого на себя и повалил на стол, стал стягивать кушак… Через минуту царя не стало.
Тут вошла мать.
– Сынок!.. – вырвался крик…
И это было последнее слово, и на её шее оказался кушак…
– Что делать будем?.. – сказал один из бояр.
– Пошли! Я знаю, что делать…
Вышли. Хмуро стояла челядь, смотрели на бояр. В глазах – лютость…
– Люди! Отравили царя и его мать! Вот эти!.. Недаром они нас не пускали к нему!.. – указал он на двух решительных.
«А-а-а!..» – разнёсся крик, и челядь кинулась на дерзких.
Бояре ушли. Один сказал:
– Как бы они нас…
– Пока они разберутся, что к чему, им, этим двоим, не жить! А с мёртвых – какой спрос…
– А сестрица?
– А её не было в терему! Наверное, где-то со своими бабками гуляет…
Пушкин ждал бояр с нетерпением. Когда вошли, спросил:
– Ну что?
– Дело греховное сделано!
– Доложу царевичу – не обидит! Кто делал?
– Спьяну легко совершил чёрное дело…
– Как он на язык?
– Чёрт его знает – спьяну может ляпнуть…
– Снаряди со мной в дорогу – самому его представлю. Авось, отблагодарит его по-царски, забудет всё… Да, кнут мне надо длинный, пастуший, с хвостецом…
– Зачем – али в пастухи нанялся? – засмеялся боярин. – Это при царе-то!..
– Нет, волки шалят. Развелось их!.. Хоть и мертвечины навалом – сыты они… Хочу себя потешить – догнать хоть одного и кнутом его огреть!
– Ох, отчаянный ты человек, Пушкин!
– Да и ты, Валентин Лукич, не из трусливых!
И оба заулыбались.
– У пастуха моего есть кнут – это не кнут, а прямо сабля! Сечёт спины холопов, аж до мослов достаёт!
– Ну вот и хорошо!
В эту лунную ночь двое скакали в сторону лагеря Гришки на берегу Москва-реки. Когда высокая круча ребрилась скалами, а река была внизу, кони пошли намётом. Пьяного боярина лошадь скакала возле кручи. Пушкин махнул кнутом, плеть обвилась вокруг передней ноги лошади. И Пушкин дёрнул за кнут. Он не дал передней ноге лошади коснуться земли, и она со всего маху грохнулся возле обрыва. Пьяный боярин полетел под кручу. Лошадь, взвизгнув, вскочила. «Тпр-р-р!..» – заорал Пушкин. Лошадь встала. Он остановил коня и повёл его к обрыву. Посмотрел внизу на ленту реки, которая пересекалась дорожкой луны, и жёлтый столб поднимался к небу, и на столбе – словно жёлтая сова с круглым лицом сидела наверху…
Пушкин поскакал обратно. Лошадь скакала за ним. Постучал в ворота.
– Кто?
– Я!
Ворота открылись. Заехал с лошадью упавшего боярина в ворота. Вышел хозяин. Почёсывая грудь, спросил:
– А где наездник?
– Упал с коня – тот в стремени ногой застрял, грохнулся, а рядом – обрыв, так полетел туда, на камни. Лежит там, внизу… Завтра возьмите и похороните… А я поскакал к царю.
– Кнут-то что бросил? Возьми…
– А на кой он мне? Сейчас не до потехи… Прощевай! До встречи!..
Боярин взял кнут, посмотрел на конец кнута – он весь в лошадиной шерсти… Подошёл к лошади. Она косила глазами на него. В сливовом глазу – луна… Смело взял за ногу, поднял её и увидел, что шерсть на ноге кольцами снята. Опустил ногу, взял шерстинку с кнута, сравнил с шерстью коня: «Сволочь!.. До чего осатанел! Животину ему не жалко!»
Пушкин прискакал в лагерь. Вечером в большой деревенской избе был царь. Когда он вошёл в сени, его там со свечой остановил постельничий:
– К нему нельзя – у него гости!
– Доложи ему, что дело важное.
– Я думаю, что сейчас у него дела поважнее государственных!.. Подожди полчаса, отдышись. Чаю хочешь?
– Не откажусь.
Через некоторое время, когда Пушкин пил третью чашку, из дверей прихожки вышла женщина. Потом из прихожки – голос:
– Эй, постельничий, кто там ко мне?
– Пушкин, ваше императорское величество!
Тот вопросительно посмотрел на него.
– После твоего отъезда приказал себя так величать, – шепнул он. – На манер византийских императоров…
Пушкин встал и прошёл через прихожую в горницу. Он сидел на кровати в нижнем белье. Потянулся, зевая:
– Ну?.. – и снова начал зевать.
– Их нет…
Тот хлопнул челюстью и забегал по горнице:
– А этот… кто… ну, приводил в исполнение…
– И его нет. Приказал долго жить…
– Как?!
– Конь под ним попал в сурчину, а рядом – обрыв… Конь чуть ногу не сломал – грохнулся со всего маху… Ну, он из седла полетел под кручу… Я скакал с ним к тебе, вроде бы, за наградой, а оно вон как получилось…
– Награда… Да, награда тебе будет…
Снял перстень с пальца:
– Давай руку! – и натянул на мизинец дорогой перстень…
…Утром Пушкина разбудили барабаны. Они будили людей. «Идём на Москву!..» – слышался крик.
«Не терпится ему взгромоздиться на трон, самозванец!..» – и зажал рот. Осмотрелся – никого нет. Перекрестил рот, бормотнул: «Боже!..» Он раскаялся за произнесённое. Встал, плеснул в лицо над лоханью из ведра водой. Быстро оделся и заспешил к соседней избе, в которой был ночью.
Там он был не один. Пушкин любил поспать. «Некогда спать – дела ждут!..»
– Простите, ваше императорское величество! Умаялся с дороги…
Присутствующие переглянулись: «И когда он успел узнать, что его так называют?..» Их мысли прервал Гришка:
– Господа, мне донесли, что Фёдор вместе с матерью в страхе передо мной отравились!..
У всех отвисли челюсти.
– Хлопните челюстями и слушайте меня! Москва нас ждёт! В путь, господа бояре!
– Ходит после обеда один, не спит – срамота одна!.. За обедней не стоит… Говорит, просвещение сделает…
– Это что, нас, неучей, поляк будет учить?! Одно у него от батюшки – ни одну юбку не пропустит… Одна девица пришла к нему в светлицу, он вмиг щупать её стал. А та, не будь дурой, вырвалась от него и по ступенькам – вниз. И он за ней, кричит: «Держи воровку!..» А сам на ровном месте шлёпнулся!..
– Это он – в батюшку!.. Тот ни одну юбку не пропустил… Пакостник был, прости Господи!.. Плохо о государе сказал…
…Смерть царя Бориса Годунова была столь неожиданной, что она вселила в сердца верующих людей веру: мол, Бог знает, кто истинный царь, не допустил он много лет царствовать Бориске, спас он Россию, вернул ей настоящего помазанника Божьего, чуждо было ему правление Бориса!.. Крестились на похоронах люди и шептались: «Бог – не Микитка, он видит и знает, кому царствовать!.. Вон, не допустил дочь-невесту… Без семени она… Могла бы давно замуж выйти, заморского царевича родила бы, да Бог не захотел!.. А сынок у него, вместо того чтоб учиться, как царствовать, наподобие глуповатого цезаря Италии – в науку вдарился! Какие-то карты чертит… Тот книги писал, а этот карты чертит!.. В восхищение своего батюшку вводил – тот и рад был этому: на трон его покушаться не будет! Да и кто такого поддерживать будет?! Царь, он должен трон любить, на место отца метить… А он – как дождик целый день штрихует, не устаёт, так он целыми днями сидит чертит на бумаге чёрт-те что!.. Нормальный художник богомазанием занимается, а этот начертит на бумаге речку и радуется, как мешком вдаренный… Отец, умирая, наставление ему давал… Да куда ему до настоящего царя Дмитрия Ивановича?!. Ясно дело, Богу он не по душе… Потому и голод напустил на наши земли, и не один год, а три подряд!.. Не по душе нашему Богу царствование Бориски… Народ недоволен – и Он недоволен…»
Так религиозность людей помогала угнездиться на троне Лжедмитрию. Часть Руси пошла за Дмитрием Ивановичем, часть бояр решительно перешла на сторону самозванца. Уж больно хитёр и смертельно опасен был Борис Годунов. Да, смерть Бориса установила «истинность» царевича Дмитрия…
…На встрече подружек женщины организовали застолье. У многих жизнь была не ахти какая: каторга, нищета и дети – а их было помногу – отбирали здоровье и жизнь.
Бедному человеку что осталось? Работа, нищета и жена. Тогда мужики умели любить женщин! Помногу рожали детей… Да и как тут не рожать – им лучина долго не горела! Свет в окошко в бычий пузырь, натянутый на него, тоже мало пропускал. Одна жена была – свет в окошке!..
Жили скудно, одна река выручала да жито. Ягоды, яблоки – дикие, кислые. Но умели их мочить – в бочке, в воде со ржаной заправкой, солью и горчицей. Роженицам ох как нужно было!.. И от склероза, для улучшения памяти их ели… Какая-то неподражаемая была в них кислинка!.. Свёкла давала курагу – сахара ещё мало было. Здоровье – было.
Войны вырывали мужей из семьи, жить надо как-то было. Ради детей шли женщины по рукам… А тут скоморошьи пляски разрешил царь Дмитрий! Степенность женщины потеряли… Шипели мужики… Иной с женой и пошумит, и пригрозит… Скоморошьи песни, частушки пошли гулять по Руси…
Некоторые женщины торговали не только самогоном и брагой, но и собой. Они несли, хоть и посрамлённую, но волю женщинам. Иногда они собирались одни, без мужей. Подпив, пели песни – тягучие, заунывные… Но иногда одна какая-нибудь, видя печаль женщин за столом, срывалась и горланила песню, песню непотребную, похабную, охальную…
Эх, снег-снежок, белая метелица –
Напилась, нажралась, только мне не верится!..
Смеялись в подпитии женщины, краснели лицом, скалили зубы – цветы ландыша, и в глазах метелилась-пуржилась синь неба… «Давайте, девчонки, ещё по одной – и до избы! Надо идти, пьяная не дойдёшь…» Выпивали и с песнями, гоготом расходились по избам…
– …А скажет мне Мнишек: «Хочу я подслащённые письма в народ послать!» – мои гонцы помчатся по Руси великой с обещаниями благодати!..
Мнишек смотрел на него и думал: «А ловок, шельмец!..»
У одного большого шляхтича будучи в гостях Гришка вдруг заболел и перед смертью якобы на одре сказал: «Тайна есть великая у меня! В час смертный не хочу унести я её на небеса. Послушай ты меня!.. Я… – говорил он, задыхаясь, – умираю я…» В глазах – бешенство, пот на лбу, перед речью лежал больным притворщиком. Он за час до «смертных своих мучений» съел гриб мухомор и стал в исступлении метаться. «Он не хочет принять меня, Отец Небесный! Не хочет принять меня!.. Не высказал я тайну… Послушай, приведи сюда попа. Ему хочу открыть я тайну, ему! Тайну моего рождения…» – «Ксёндза мне сюда!..» – приказал шляхтич.
Когда бежал слуга за монахом, к хозяину подошёл один его слуга:
– Пан, что я скажу: болен он… Безумие в глазах, потливость… И речь его безумна. Сказал мне, что он – чудом спасшийся царевич Дмитрий… Пан ясновельможный, помнишь, как посылал ты нас отбить отряд викингов? И тогда они в ярости горящей малым числом побили нас многих, и я в плен попал?.. Так вот, тоже дознался я о храбрости их великой. Перед битвой эти рогоносцы без жён перед боем ели мухоморы, и он их пёр, безумных, напролом на смерть. Её они не боялись… Сейчас подобную картину наблюдаю я…
– Так мухомор же отравление, а не безумие вызывает, смерть!.. Отрава эта так опасна…
– Не совсем, ясновельможный!.. Позволь мне запах изо рта и рук его принять, и я скажу, правильна ли моя догадка.
– Иди.
Он подошёл, склонился больному ко рту носом, потом его правую руку поднёс к своему носу…
– Ах, пся кровь, хотел хозяина моего надуть!.. – бормотал он, в пренебрежении бросил руку того, кто в будущем перстом указующим заставит повиноваться шестую часть суши и соседей – трепетать…
– Лжец, ясновельможный пан, здесь тебе мозги туманит. А позволь я его плёткой живо вылечу!.. – поддёрнул он жупан и уже пошёл на кривых кавалерийских ногах за ней.
– Нет, постой, погоди… И долго он эдак будет лежать?
– Когда буйство у него пройдёт – через двое суток встанет, если память мне не изменяет…
– Ах он, негодяй такой, чего удумал! Ну уж я его расспрошу, разузнаю, как погиб мнимый царевич, а он живой остался… А вообще, зачем мне это знать? К Вишневецкому его отправить! А там, глядишь, и к королю… Если он тут мне признался, они ведь могут его использовать… Великие паны знают, что делать с ним… Не нам они чета, которые только и знают любить жён, детей, пить брагу-медовуху да сабелькой во имя прекрасной Польши махать…
И вскоре повёз он его к пану Вишневецкому – человеку ума государственного. И там, сидя с ним за столом, угощаясь вином – допустил незначительного шляха до своего стола! – он рассказал, что ему рассказал царевич Дмитрий. Якобы, зная скверный характер царя Бориса, опричника Ивана Грозного, держала мать его двоюродного братца, на Дмитрия похожего. И не одного его, а ещё нашли мальчика, на него похожего. И что были они в неге и холе, жили недалеко – в городе Угличе. И вот, когда прибыл из Москвы посланец Борисов якобы с дарами для царевича, мать, Мария Нагая, удалила от себя сына под присмотром врача-иностранца и приблизила к себе двоюродного его брата. И его-то они и зарезали. А билась она и кричала и била поленом мамку царевича, чтоб показать, что зарезали настоящего царевича, чтоб уверить царя Бориску и отвлечь его от смертоубийства её отрока. Разве может мать, увидев окровавленного сына, бить кого-то? Да ещё приказать брату бить мамку?.. Велела звонить в колокола – народ позвать и его ярость и буйство использовать… Мать при виде тела в крови дитя зашатается и хлопнется в обморок! А эта народу яростному указала и ярость направила на большую группу людей – якобы они были в заговоре убить царевича. И велела спрятать царевича до поры до времени от Бориса до нужных времён. А тогда Борис был в фаворе у сановников и народа. Он построил многие города или начал их строить. Он закончил завоевание Сибири, притом малой кровью, и отошли к Руси и Аляска, и другие куски Америки, стали русские люди их столбить, желали, хоть сделали это после. Но лиха беда начало! Захапистость людей видна была. И спасала она сына до определённого времени, потому и вынесла позор и унижение, которому подверг её царь Борис якобы за то, что по её наущению в неоправданном гневе многих убили.
Всё это разведал-узнал хитрый воевода. Многих русских призывал он к столу своему. Вино столетнее из подвалов не подавали, а кисляк бросовый ставил на стол. А мяса дикой живности за столом не было, а так, похеренная скотина или птица по недогляду слуг хирела-болела – её и подавали к столу «гостей дорогих», хоть на Руси они были приближены к царям. Кто бежал от царя Иоанна Грозного, были и в правление Феодора, глуповатого, но умного Бориски, а потом тикали и от царя Бориса Годунова. Все эти люди искали правды и защиты. И подпив за столом, в пьяни становились очевидцами и чуть не любовниками цариц и их сестёр, пробирались даже в кельи опальных «принцесс», а то и самого постельничьими были, и все тайны двора им были известны.
А сейчас на Руси голод. Вот уж какой год неурожай. Народ ропщет, недовольство растёт не по дням, а по часам. Крестьянин бежит на все четыре стороны – лишь бы где-то пропитаться…
Мнишек смотрел и молчал. Из всей этой болтовни, что слышал он за столом, вынес одно: хитрый и умный этот мнимый царевич. Он был уверен: с ним можно сделать великое дело…
После того, как сознался Григорий Отрепьев, что он царевич Дмитрий, ждал он заточения. Думал, что его больного отведут в пыточную камеру, как делалось на Руси, и отведать ему калёного железа. Лежал крестился и говорил: «Боже, укрепи! Сохрани Христос! Дай силы в пыточной не сознаться, что я Гришка Отрепьев». Он пролежал трое суток, и его сочли больным. Вызвали к нему лекаря. А через неделю, когда он оклемался, его пригласили в трапезную попа. Он вышел из своего, как он считал, узилища, на своё удивление. Глянул на гонца, улыбнулся.