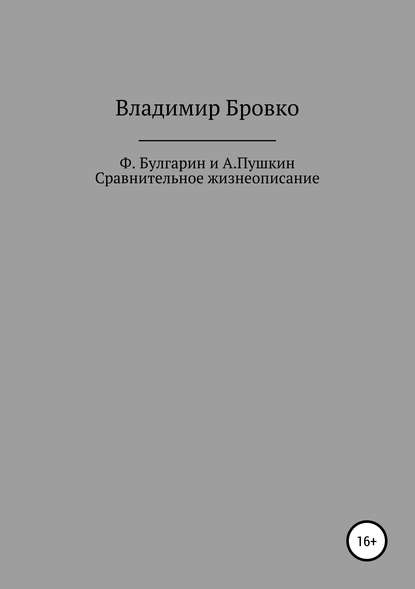По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ф.Булгарин и А.Пушкин. Сравнительное жизнеописание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Он подошел к моей матушке, успокоил ее, изъявил сожаление, что она, из опасения его земляков, подверглась такой опасности; уверил, что никому, даже последнему мужику, солдаты его не сделают ни малейшей обиды; потом, обратясь к сестрам, сказал с улыбкой, что он сберег их ноты, фортепиано и гитары, и оставил их комнаты незанятыми, и наконец, увидев меня уже на коленях у матушки, взял на руки, поцеловал и спросил, хочу ли я с ним подружиться.
Видя, что появление его всех успокоило, я крепко обнял его за шею и сердечно расцеловал, отвечая, что хочу быть его другом, если он не убьет никого из нас.
"Я, дружок, тогда только убиваю, когда на меня нападают, и защищаю тех, кому нужна моя помощь".
Это сказано было не для меня, а для всех. "До дома еще далеко", сказал капитан дамам: "и вы не дойдете пешком.
Прошу покорно подождать, я помогу делу…" И капитан, посадив меня на колени матушки, удалился, оставив всех в удивлении и недоумении. Тогда так боялись русских, что матушка моя не верила, чтоб капитан был природный русский, и сказала:
"На счастье наше, это или поляк, или лифляндец, или курляндец! (albo Polak, albo Liflandczyk, albo Kurlandczyk)".
Впрочем, капитан Палицын весьма недурно говорил по-польски; он провел долгое время в Польше и, как после сказывал, имел искренних приятелей между поляками. Еще бы такому человеку не иметь приятелей!
Через полчаса возвратился капитан. За ним шестнадцать гренадер несли четыре носилки, наскоро сделанные из сучьев. Я не спускал глаз с солдат. Они имели ружье за плечами, на ремне, по-охотничьи.
Капитан просил дам (в том числе и пану Клару, которая была больна от испуга), сесть на носилки. Сперва матушка и сестры противились и отговаривались, но наконец согласились. Положили на носилки подушки; дамы сели; меня взял на руки саженный гренадер, с предлинными усами, и, по команде капитана: вперед! шествие двинулось. Шагах в пятидесяти, на небольшой площадке, стоял отряд.
"Песенника вперед!" сказал капитан, и часть солдат отделилась. Остальные солдаты, по одному, шли за нашим обозом, и мы весело пошли вперед, под звуки русских песен. Впервые услышал я тогда русские песни и солдатский хор; некоторые из тогдашних песен я после часто слышал, и они остались у меня в памяти.
Прибыв домой, матушка чрезвычайно удивилась, что капитан с поручиком заняли комнаты в гостином флигеле, не сдвинув даже стулья с места в нашем доме.
Явился наш управитель, и объявил, что по приказанию капитана он пригнал во двор скот и привел лошадей, и что капитан приказал только кормить солдат в деревне и давать им винную порцию, обещая, что все будет смирно и тихо, как в мирное время.
Приказчик промолвил, что он сам хотел ехать за ними, с известием, что в москалях Бог послал нам таких добрых людей, когда Иосель явился к капитану с известием о разбойниках, и капитан в ту же минуту собрал команду и отправился…
Матушка испросила у капитана позволение дать каждому солдату по рублю серебром и угостить на другой день всю роту во дворе, промолвив, что она надеется, что избавитель ее и всего нашего семейства не откажется разделять с нами стол и все, чем только она может с ним поделиться. Капитан согласился быть нашим гостем, и во все время своего квартирования в Маковищах проводил целый день в нашем семействе. Это был милый, образованный и добрый человек. Солдаты обожали его.
Хотя Иосель сказал, что отец мой приедет скоро домой, но он возвратился через неделю, к самому обеду, и, зная уже все случившееся, бросился в объятия капитана, со слезами благодарил его за благородное обхождение, покровительство и избавление нас от величайшей опасности. Отец любил жить весело: он тотчас послал приглашение к соседям, прося их приехать на несколько дней, с семействами, повеселиться, перед отъездом всего нашего семейства в Несвиж.
В этом городе велено ему было проживать, по его должности, и он не хотел расставаться со своим семейством, чтоб не подвергать нас снова подобным приключениям.
Наехало гостей множество, и как погода была теплая, то дамы поместились в комнатах, а мужчины, вместе с моим отцом, устроили себе жилище на гумне.
Привезли из Глуска музыку графа Юдицкого. Капитан Палицын, по просьбе отца моего, пригласил приятелей своих офицеров – и пошла пируха! Каждый день прогулки, большой обед, танцы, ужин, музыка, пение – и так пировали целую неделю.
Тут я увидел в первый раз так называемую лодку, представляемую русскими песенниками, увидел русскую пляску, и так полюбил лихих русских солдат, что не отходил от них, носил им водку, виноградное вино, булки, пироги, и давал даже деньги, выпрашивая у родителей.
За то и солдаты полюбили меня, и говорили пророчески: "этот будет наш!"
Я бросил все мои игрушки, и играл штыками и тесаками. В карманах у меня были пули, через плечо золотой шарф капитана Палицына. Через неделю он, после бала, продолжавшегося до утра, выступил с ротой в поход, в Слуцк, провожаемый с музыкой всем обществом, верст за пятнадцать, где приготовлен был завтрак на прощанье, а после него, на третий день, выехали мы в Несвиж.
Хотя Иосель сказал, что отец мой приедет скоро домой, но он возвратился через неделю, к самому обеду, и, зная уже все случившееся, бросился в объятия капитана, со слезами благодарил его за благородное обхождение, покровительство и избавление нас от величайшей опасности. Отец любил жить весело: он тотчас послал приглашение к соседям, прося их приехать на несколько дней, с семействами, повеселиться, перед отъездом всего нашего семейства в Несвиж.
Дом наш сделался местом собраний всех русских офицеров и всех семейств, съехавшихся в Несвиж, для избежания опасностей от мародеров, и почти каждый вечер у нас занимались музыкой и танцами, и играли в карты.
Страшно вспомнить об этой игре!
Червонцы ставили на карту не счетом, а мерой – стаканами!
В офицерских квартирах, как рассказывал отец мой, играли также на вещи: на жемчуг, алмазы, серебряную и золотую посуду, часы, перстни, серьги, драгоценное оружие и конскую сбрую.
Шайки Варшавских и Виленских шулеров разъезжали из одного штаба русских войск в другой штаб, и прибирали к рукам добычу. Многие игроки сделались богачами, хотя и с переломанными костями, без глаза или без зубов; некоторые лишились жизни за карточным столом.
Тогда на все смотрели сквозь пальцы! Благоразумнее всех поступали русские офицеры из немцев: они отправили свои сокровища домой, потом накупили мыз в Лифляндии и Эстляндии и, вошед бедняками в службу, оставили детям богатое наследство. Большая часть русских, что нажили в Польше, то в ней и прожили. Славянская кровь! Почти то же было и с поляками в России, во время Самозванцев, с той разницей, что поляки проигрывали своим и чужеплеменникам.
Летом 1795 года началось окончательное присоединение бывшей Литвы, Больший и Подоли к России. Генерал-губернатором в Литве был генерал-аншеф князь Репнин, прежний посол при польском Короле, или правильнее, правитель всей Польши; минским губернатором назначен был генерал-поручик Тутолмин.
Главная квартира дивизии войск, занимавших частей Литвы, прилежащую к Белоруссии, переведена в город Минск, и начальство над этой дивизией поручено генералу Денисову.
Повсюду стали приводить к присяге дворянство, духовенство и мещан всех исповеданий, и в конце июня обнародован генералом Тутолминым знаменитый манифест императрицы Екатерины II, подтверждающий все права и привилегии, которыми эти области пользовались прежде.
В новоучрежденных губерниях, вместо прежних воеводств, вводили русское управление, оставляя прежний порядок касательно избирательных мест, но только в казенных местах и по полицейской части определяли русских чиновников, и когда, 12/24 октября 1795 года, между тремя державами решено было разделить между собой бывшую Польшу – в провинциях, присоединенных к России, уже введено было новое устройство и принесена присяга, хотя Король польский, проживавший в Гродне, подписал акт отречения от престола только 13/25 ноября того же года.
При введении нового порядка вещей обязанности отца моего по званию Военно-гражданского комиссара кончились: он отправился в Минск, для сдачи отчетов генералу Тутолмину, а семейство наше возвратилось в деревн
Учеба в Сухопутном корпусе
«До января 1797 года Сухопутный шляхетный кадетский корпус разделялся на пять возрастов, по старшинству лет, считая с пятого возраста. В четырех возрастах за поведением кадетов смотрели офицеры и гувернеры, а в первом возрасте гувернантки (или, как мы называли, мадам) и няньки.
Только родовые дворяне принимались в кадеты, для которых при выпуске из корпуса открыты были все пути государственной службы.
Воспитанники не из родовых дворян, а из обер-офицерских и детей священников, иностранцев, и т.п., поступали в гимназисты, которых было по несколько в каждом возрасте.
Только два старшие возраста имели военные мундиры, а прочие носили французские кафтаны, короткое исподнее платье, чулки и башмаки. Военным экзерцициям старшие кадеты обучались только в лагерное время.
Граф Федор Евставьевич Ангальт, родственник императрицы Екатерины II, генерал-аншеф и генерал-адъютант, не покорил для России новых областей, не взял приступом городов, не выиграл генеральных сражений, не составил великих планов для государственного управления, но будет жить в истории вместе с героями и великими мужами, – приобрел себе бессмертие одной чистой любовью к человечеству!
Какой великий урок для гражданских обществ, какое унижение для честолюбцев, эгоистов и интригантов, какое торжество для добродетели! Граф Ангальт управлял корпусом только семь лет с половиной (от 8 ноября 1786 до 24 мая 1794 года), и в это короткое время управления незначительной отраслью администрации, в сравнении с другими важными частями государственного состава, приобрел бессмертную славу, между тем, как многие из его современников важных, сильных, могущественных – забыты в могиле!
Сколько было кадет, столько было сердец, любивших и чтивших его, как нежного отца, как благодетеля, как попечительного наставника и друга. …
Корпус подобно сосуду, в котором хранилось драгоценное благовоние, еще благоухал прежним ароматом. В рекреационной зале еще стояли бюсты великих мужей, которых жизнь и подвиги толковал граф Ангальт кадетам, возбуждая в них идеи славы и величия; еще каменная стена, вокруг корпусного сада, красовался эмблематическими изображениями, поучительными изречениями, афорисмами, нравственными правилами мудрецов, и эпохи важнейших событий в мире были начертаны хронологически, для пособия памяти.
Довольно было выучить наизусть все написанное на этой стене, чтоб просветить разум и смягчить сердце юноши.
В последствии корпус составлял батальон из четырех мушкетерских и одной гренадерской роты, и при батальоне было малолетнее отделение (прежний первый возраст). Кадеты ротные носили уже мундиры, по общему образцу, и пудрились при парадной форме. Малолетное отделение сохраняло прежние французские кафтаны (коричневого цвета), а дома малолетные кадеты носили куртки и шаровары.
Bсe новыя учреждения и преобразования начались еще при императрице Екатерины II, во время Директорства Генерал-поручика Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова (бывшего потом Светлейшим князем Смоленским и Фельдмаршалом).
После Графа Ферзена управлял временно корпусом Генерал-майор Андреевский, до марта 1799 года, а в это время назначен директором генерал от Инфантерии граф Матвей Иванович Ламсдорф.
При Андреевском и Ламсдорфе не было больших перемен, и все оставалось на основании порядка, введенного М.Л.Кутузовым.
В малолетном отделении не было ничего военного: это был пансион, управляемый женщинами. Малолетное отделение разделено было на камеры (chambre), и в каждой камере была особая надзирательница, а над всем отделением главная инспекторша (inspectrice), мадам Бартольде меня отдали к самой нежной, к самой ласковой, добродушной надзирательнице, мадам Боньот.
Я пользовался полною свободою и в родительском доме; и у Кукевича, а тут вдруг попал в клетку! Надлежало есть, пить, спать, играть и учиться не по охоте, а по приказанию, в назначенные часы.
– Учителя были люди холодные, исполнявшие свое дело механически. Знаешь урок – хорошо, не знаешь – на колени или на записку.