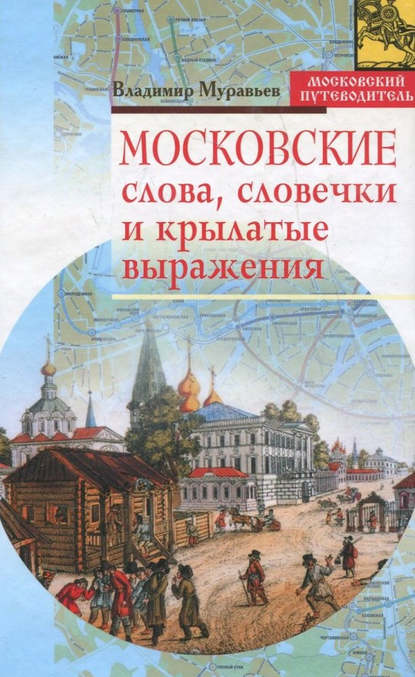По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Московские слова, словечки и крылатые выражения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В это время Россия испытывала на себе в полной мере все те беды, которые несет с собою Смута и государственное неустройство: польские и шведские отряды захватывали и грабили русские города, повсюду объявлялись разбойничьи шайки, по России ездили эмиссары правительства, склоняя жителей к избранию Владислава царем, вновь пошли слухи о том, что царевич Дмитрий спасся, и вооруженные отряды молодцов, отставших от крестьянской работы и привыкших добывать средства к существованию силой, шатались по стране с намерением пристать к войску «законного» государя. Деревни стояли разоренные, поля пустые, города наполнились нищими. Особенно тяжело приходилось москвичам: знатные и богатые подвергались насилию со стороны поляков, а уж простому человеку и вовсе негде было искать правды и защиты… Припоминали старину, сравнивали прошлое горе с нынешним, и казалось, что теперешнее – горше. «Лучше грозный царь, чем семибоярщина», – говорили тогда в Москве, и эта пословица жива до сих пор.
«Седьмочисленные бояре» отсиживались в Кремле: их не выпускали поляки, да и сами они боялись показаться народу. Досиделись они взаперти до того самого часа, когда ополчение под руководством Минина и Пожарского, разгромив польское войско, осадило Кремль, и поляки готовы были сдаться, прося лишь одного: чтобы им сохранили жизнь. Пожарский обещал, что ни один пленный не будет убит.
Тогда открылись Троицкие ворота, сначала – перед собой – поляки выпустили бояр. Князь Мстиславский как старший среди них шел первым, за ним остальные – бледные, испуганные, с опущенными головами. «Изменники! Предатели! – кричали казаки. – Их надо всех перебить, а имущество поделить среди войска!» К боярам тянулись руки, еще миг – и их разорвут в клочья. Но князь Пожарский со своим отрядом оттеснил людей и вывел бояр из толпы.
Так закончилось правление «седьмочисленных бояр». Хотя Пожарский и спас их жизни, они не решились остаться в Москве и, забрав семьи, разъехались по дальним своим деревням.
Правление семи бояр оставило по себе долгую и недобрую память. Это время народ назвал «семибоярщиной». С тех пор какую-либо порожденную властью неурядицу на Руси стали именовать «московской разнобоярщиной». Были и другие пословицы, в которых упоминались «седьмочисленные бояре». Интересна, например, такая: «Эк, куда хватил: семибоярщину припомнил!» Б. Шейдлин в брошюре «Москва в пословицах и поговорках» (М., 1929) комментирует ее так: «Затем уже семибоярщину стали вспоминать как нечто очень давнее, позабытое и невозвратное». А может быть, у нее и другой смысл: ответ на беззаконные требования какого-нибудь зарвавшегося начальника, не желающего признавать законы и обычаи.
Но одна пословица, родившаяся во времена семибоярщины, а потом оторвавшаяся от конкретного факта и обратившаяся в универсальную сентенцию, и в настоящее время является одной из самых распространенных, это пословица «У семи нянек дитя без глазу». Она имеет варианты: «У семи нянек дитя без рук», «У семи нянек дитя – урод». Также имеются варианты, в которых говорится не о няньках, а о пастухах, вот, пожалуй, лучший из них (и как он характерен для любой семибоярщины): «У семи пастухов стадо – волку корысть».
Борода-то Минина, а совесть-то глиняна
Александр Николаевич Островский в 1854-м завел тетрадь для записей. О том, что именно он собирался записывать, дает представление ее пространное название: «Замечательные русские простонародные рассказы, притчи, сказки, присказки, побасенки, песни, пословицы, поговорки, обычаи, поверья, областные слова и проч. Происшествия, биографии, прозвища, клички, брань, письма. Начал собирать в апреле 1854 г.». К сожалению, Островский вскоре оставил свой замысел, но даже и то, что было записано, представляет собой любопытные штрихи московской, преимущественно купеческой, простонародной речи. Среди пословиц и поговорок им была записана и пословица, о которой идет речь.
Позже, вплоть до 1920-х годов, эта пословица не раз встречалась фольклористам, и не только в Москве, но и в центральных, и в северных районах России.
Пословица возникла, скорее всего, в 1830—1840-е годы, спустя некоторое время после установки на Красной площади в 1818 году памятника Минину и Пожарскому – первого в Москве скульптурного памятника. Памятник был воздвигнут в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года. В ту войну имена героев XVII века были символом освободительной борьбы и ее знаменем: царский манифест о народном ополчении, приказы главнокомандующего призывали народ к тому, чтобы враг и ныне встретил в каждом дворянине Пожарского, в каждом гражданине – Минина. Таким образом, этот памятник, соединив в себе две эпохи единой идеей патриотизма, стал и московской достопримечательностью, и национальным символом.
Шестнадцатилетний студент Н.В. Станкевич в 1829 году пишет четверостишие «Надпись к памятнику Пожарского и Минина»:
Сыны отечества, кем хищный враг попран,
Вы русский трон спасли – вам слава достоянье!
Вам лучший памятник – признательность граждан,
Вам монумент – Руси святой существованье!
А юный Виссарион Белинский, в 1829 году приехавший в Москву, чтобы поступить в университет, рассказывая в письме к друзьям в Чембар о своих впечатлениях от столицы, пишет о памятнике, на котором начертана «краткая, но выразительная надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия»: «Когда я прохожу мимо этого монумента, когда я рассматриваю его, друзья мои, что со мной тогда делается! Какие священные минуты доставляет мне это изваяние! Волосы дыбом подымаются на голове моей, кровь быстро стремится по жилам, священным трепетом исполняется все существо мое, и холод пробегает по телу. Вот, – думаю я, – вот два вечно сонных исполина веков, обессмертившие имена свои пламенною любовью к милой родине. Они всем жертвовали ей: имением, жизнью, кровью. Когда Отечество их находилось на краю пропасти, когда поляки овладели матушкой-Москвой, когда вероломный король их брал города русские, – они одни решились спасти ее, одни вспомнили, что в их жилах текла кровь русская. В сии священные минуты забыли все выгоды честолюбия, все расчеты подлой корысти – и спасли погибающую отчизну. Может быть, время сокрушит эту бронзу, но священные имена их не исчезнут в океане вечности. Поэт сохранит оные в вдохновенных песнях своих, скульптор в произведениях волшебного резца своего. Имена их бессмертны, как дела их. Они всегда будут воспламенять любовь к родине в сердцах своих потомков. Завидный удел! Счастливая участь!»
О большом и широком народном интересе к памятнику Минину и Пожарскому, а также к другим московским историческим и архитектурным достопримечательностям свидетельствует многократно переиздававшаяся в течение XIX века серия лубочных листов «Пантюшка и Сидорка осматривают Москву».
Сюжет серии незамысловат: в Москву приезжает из деревни парень Сидорка, и его земляк Пантелей, живущий в Москве и к тому же немного грамотный, водит друга по столице, рассказывая о наиболее любопытных местах.
Перед памятником Минину и Пожарскому между земляками происходит такой разговор, служащий подписью к лубочной картинке:
«Сидорка. Глянь-ка, Пантюха! Вон это, на большом камне-то стоит не Росланей ли богатырь? Не царь ли Огненный щит и пламенное копье?
Пантюшка. Э, брат Сидорка, уж ты к Еруслану заехал, Лазаревича запел! Это, вишь ты, памятник богатырям русским, которые спасли Русь от поляков. Это стоит Кузьма Минин, а это сидит князь Пожарский.
Сидорка. Уж впрямь, что богатыри, есть в чем силе быть! Рука-та ли, нога-та ли, али плечи-та – того гляди, один десятка два уберет!
Пантюшка. Дурашка, да ты мекаешь – они такие и были? Это нарочно так их представили, чтоб показать их великое мужество и великую любовь к родимому Отечеству.
Сидорка. Ну, Пантелей Естифеич! Недаром говорят, что за одного ученого двух неученых дают. Вот то ли дело, как ты маракуешь грамоте-то и понаторел у дьячка-то Агафона Патрикеича!»
Ксенофонт Полевой – известный московский журналист и издатель 1830—1840-х годов, по происхождению купеческий сын, не так восторжен и романтичен, как юный Белинский, но и он в очерке «Москва в середине 1840-х годов» отмечает нравственное влияние памятника Минину и Пожарскому на москвичей. «Можно ли, – пишет он, – чтобы такое прошедшее не имело влияния на значение Москвы и на нравственный характер ее жителей? Конечно, современное вытесняет все впечатления, и человек, бегущий по своим делам мимо памятника Минину и Пожарскому, мимо Лобного места к Москворецкому мосту, не вспоминает о величайшем подвиге в нашей истории, подвиге освобождения Москвы и России… Но не всегда же самый занятый человек бывает погружен в свои дневные заботы; иногда, хоть изредка, посреди тревог и тягостей жизни, грудь его подымается от облегчительного вздоха, ум светлеет и глаза падают внимательнее на окружающие его предметы».
На картинах и литографиях середины XIX века, изображающих Красную площадь, почти всегда возле памятника Минину и Пожарскому мы видим колоритную фигуру купца – с семейством, с приятелем или в одиночку. Как, например, на литографии Ф. Бенуа (1840-е годы) представлены и прогуливающаяся группа – купец с супругой и двумя дочерями, и тут же другой купец, рассматривающий памятник в зрительную трубу.
Козьма Минин – герой, почитавшийся всей Россией, кроме того был особо, так сказать, корпоративно, почитаем купечеством. Свой герой, из купцов, в те времена был просто необходим поднимающемуся классу купечества, начинавшему играть в государстве все более и более значительную роль. Поэтому-то, стоя перед памятником, установленным на главной площади Москвы, глядя на величественное бронзовое изображение и поглаживая собственную бороду, такую же, как у знаменитого российского гражданина, купец с гордостью думал: «Вот ведь на что мы, купцы, способны! Коли доведется, и мы спасем Отечество».
Но часто бывало и так: перед памятником душа возносится ввысь, а в лабазе и в лавке забота о выгоде, о прибыли вытеснит все остальные чувства и помышления, и самой большой радостью станет удавшийся обман покупателя. (У Островского записана купеческая шутка: «Что весел, аль украл что?») Вот по такому поводу и сложена укоризненная пословица: «Борода-то Минина, а совесть-то глиняна».
В мае 1924 года памятник Минину и Пожарскому стал поводом для острой политической эпиграммы. Ситуация в стране невольно вызывала историческую параллель между современностью и Смутой XVII века.
Шел первый после смерти В.ИЛенина съезд партии – XIII съезд РКП(б). На нем обсуждался острый вопрос о персональных назначениях. В Москве было известно о письме Ленина съезду, в котором он давал характеристики главнейшим деятелям партии. Все с волнением ожидали, кто займет в партии место Ленина.
С главным докладом на съезде – «Политическим отчетом ЦК РКП(б)» – выступил Григорий Зиновьев. По негласному правилу, с таким докладом должен был выступать первый человек партии, ее вождь. Пошли толки о том, что Зиновьеву каким-то образом удалось захватить власть, и ему уже дали прозвище «новый Гришка Отрепьев».
А на памятнике Минину и Пожарскому, который тогда стоял посреди Красной площади напротив Сенатской башни, и рука Минина указывала на Кремль, в эти дни (как утверждает предание) появилась надпись:
Смотри-ка князь,
Какая мразь
В Кремле сегодня завелась!
В 1930 году памятник Минину и Пожарскому с середины Красной площади был перенесен к собору Василия Блаженного и повернут. Теперь Минин указывает на Исторический музей.
В связи с идеей возвращения Красной площади ее исторического облика стоит вопрос о возвращении памятника Минину и Пожарскому на его первоначальное место.
Тем более что первый шаг уже сделал: в 1993 году на Красной площади был восстановлен снесенный в 1936 году Казанский собор, построенный в XVII веке в память освобождения Москвы в 1612 году.
Делу время, а потехе час
У этой пословицы два автора – царь Алексей Михайлович и народ, «поправивший» царя, в результате чего царская сентенция и стала народной пословицей.
Смысл этой пословицы как при употреблении в живой речи, так и в литературе вполне определенный. Н.С. Ашукин в своем справочнике «Крылатые слова» (М., 1966) приводит два литературных примера: из воспоминаний В.В. Вересаева, чья родная языковая среда – интеллигентский круг, и из статьи М. Горького – носителя народной, а точнее простонародной, языковой стихии. Эти примеры говорят о едином, общенародном понимании смысла пословицы.
Цитата из «Воспоминаний» В.В. Вересаева: «Началось учение – теперь в гости нельзя ходить… Это проводилось у нас очень строго: делу время, а потехе час. В учебное время – никаких развлечений, никаких гостей».
Цитата из М. Горького (статья «Об анекдотах»): «Само собой разумеется, что я не против развлечений, но по условиям нашей действительности развлечения нуждаются в ограничении: “делу – время, а потехе – час”».
Смысл этой пословицы, которая утверждает, что делу следует посвящать основную часть жизни, а развлечениям – ограниченное время, полностью в традициях народной трудовой морали. Она стоит в том же ряду, что и другие пословицы о труде, приводимые В.И. Далем: «Гулять – гуляй, а про дело не забывай», «Не пиры пировать, коли хлеб засевать», «Маленькое дело лучше большого безделья»…
Но изречение царя Алексея Михайловича – прямой источник и почти полная копия народной пословицы (они отличаются только одной буквой) – имеет иное, чуть ли не прямо противоположное значение, и, если обратиться к обстоятельствам появления царского «крылатого слова», это становится особенно понятным.
Царь Алексей Михайлович был страстным любителем соколиной охоты. С ранней весны до поздней осени он почти ежедневно выезжал в поле, то есть на охоту. На Руси издавна охоту, если она не являлась промыслом, называли «потехой».
Царская соколиная охота была хорошо организована. В «кречетнях» в селе Коломенском и селе Семеновском, в «сокольничьих дворах» в слободе Сокольники содержалось более трех тысяч ловчих птиц. Их обслуживали сотни служителей-сокольников. Огромные средства тратились на соколиную охоту. Птиц доставляли издалека – с Двины, из Сибири, с Волги, каждую птицу везли «с бережением» в особом возке, обитом войлоком.
Одежды сокольников и снаряжение птиц поражали богатством – золотым шитьем, драгоценными камнями. Иностранцы, которых царь в знак особой милости приглашал на охоту, описывали ее восторженно.
Ведало царской охотой самое влиятельное учреждение в государстве – Тайный приказ.
Какое важное, можно сказать, государственное значение придавалось при дворе Алексея Михайловича соколиной охоте, рассказывает австрийский посланник Мейерберг. Однажды он попросил показать ему охотничьих кречетов. Прошло полгода, посланник потерял надежду, что его просьба будет исполнена, тем более что ему объяснили: птиц показывают только лицам приближенным и удостоенным особой милости.
Но полгода спустя, рассказывает Мейерберг, «в воскресенье на масленице… вдруг вошел к нам в комнату первый наш пристав и с великою важностью, как будто было какое-нибудь особенное дело, пригласил нас перейти в секретный кабинет наш. Вслед за нами явился туда царский сокольничий с 6 сокольниками в драгоценном убранстве из царских одежд (имеется в виду: пожалованных царем. – В.М.). У каждого из них на правой руке была богатая перчатка с золотыми обшивками, и на перчатке сидело по кречету. Птицам надеты были на голову новенькие шелковые шапочки (клобучки), а к левой ноге привязаны золотые шнурки (должики). Всех красивее из кречетов был светло-бурый, у которого на правой ноге блистало золотое кольцо с рубином необыкновенной величины. Пристав обнажил голову, вынул из-за пазухи свиток и объяснил нам причину своего прихода: что-де «великий государь, царь Алексей Михайлович (следовал полный его титул), узнав о нашем желании видеть его птиц, из любви к верному своему брату – римскому императору Леопольду – прислал к нам на показ 6 кречетов».
В 1656 году по повелению царя было составлено подробнейшее руководство по соколиной охоте «Книга глаголемая Урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути».