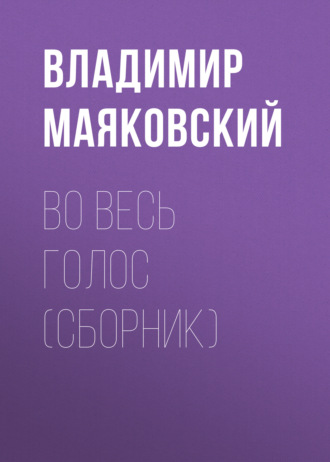
Во весь голос (сборник)
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.
Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.
Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
– Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте – знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской му́ки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
1914–1915Флейта-позвоночник
Пролог
За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.
Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.
Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.
1
Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
Буре веселья улицы узки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.
Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!
Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью па́ленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.
Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.
Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
Всевышний инквизитор!
Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!
Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
2
И небо,
в дымах забывшее, что голубо,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.
Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.
Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.
Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.
Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.
Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.
Будешь за́ море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.
В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.
Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.
Вынесешь на́ мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.
С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.
Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.
Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я – равный кандидат
и на царя вселенной
и на
кандалы.
Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.
Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилась румянцем чахоточного.
3
Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я,
Творись, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!
С
егодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.
Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)
Ямами двух могил
вырылись в лице твоем глаза.
Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с по́моста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.
Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.
Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.
Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.
Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.
Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.
Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.
Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашей ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!» —
Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.
И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.
В муке
перед той, которую отда́л,
коленопреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.
Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.
Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.
В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.
1915Владимир Ильич Ленин
Российской коммунистической партии посвящаю
Время —
начинаю
про Ленина рассказ.
Но не потому,
что горя
нету более,
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною
осознанною болью.
Время,
снова
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
растекаться
слёзной лужею, —
Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знанье —
сила
и оружие.
Люди – лодки.
Хотя и на суше.
Проживёшь
своё
пока,
много всяких
грязных ракушек
налипает
нам
на бока.
А потом,
пробивши
бурю разозлённую,
сядешь,
чтобы солнца близ,
и счищаешь
водорослей
бороду зелёную
и медуз малиновую слизь.
Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши.
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболган.
Голосует сердце —
я писать обязан
по мандату долга.
Вся Москва.
Промёрзшая земля
дрожит от гуда.
Над кострами
обмороженные с ночи.
Что он сделал?
Кто он
и откуда?
Почему
ему
такая почесть?
Слово за словом
из памяти таская.
не скажу
ни одному —
на место сядь.
Как бедна
у мира
сло́ва мастерская!
Подходящее
откуда взять?
У нас
семь дней,
у нас
часов – двенадцать.
Не прожить
себя длинней.
Смерть
не умеет извиняться.
Если ж
с часами плохо,
мала
календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —
«эра».
Мы
спим
ночь.
Днём
совершаем поступки.
Любим
свою толочь
воду
в своей ступке.
А если
за всех смог
направлять
потоки явлений,
мы говорим —
«пророк»,
мы говорим —
«гений».
У нас
претензий нет, —
не зовут —
мы и не лезем;
нравимся
своей жене,
и то
довольны доне́льзя.
Если ж,
телом и духом слит,
прёт
на нас непохожий,
шпилим —
«царственный вид»,
удивляемся —
«дар божий».
Скажут так, —
и вышло
ни умно, ни глупо.
Повисят слова
и уплывут, как ды́мы.
Ничего
не выколупишь
из таких скорлупок.
Ни рукам
ни голове не ощутимы.
Как же
Ленина
таким аршином мерить!
Ведь глазами
видел
каждый всяк —
«эра» эта
проходила в двери,
даже
головой
не задевая о косяк.
Неужели
про Ленина тоже:
«вождь
милостью божьей»?
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберёг,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперёк.
Я б
нашёл
слова
проклятья громоустого,
и пока
растоптан
я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,
по Кремлю бы
бомбами
метал:
ДОЛОЙ!
Но тверды
шаги Дзержинского
у гроба.
Нынче бы
могла
с постов сойти Чека.
Сквозь мильоны глаз,
и у меня
сквозь оба,
лишь сосульки слёз,
примёрзшие
к щекам.
Богу
почести казённые
не новость.
Нет!
Сегодня
настоящей болью
сердце холодей.
Мы
хороним
самого земного
изо всех
прошедших
по земле людей.
Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в своё корыто.
Землю
всю
охватывая разом.
видел
то,
что временем закрыто.
Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщинят кожей,
да насмешливей
и твёрже губы,
чем у нас.
Не сатрапья твёрдость,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$триумфаторской коляской
мнущая
тебя,
подёргивая вожжи.
Он
к товарищу
милел
людскою лаской.
Он
к врагу
вставал
железа твёрже.
Знал он
слабости,
знакомые у нас,
как и мы,
перемогал болезни.
Скажем,
мне бильярд —
отращиваю глаз,
шахматы ему —
они вождям
полезней.
И от шахмат
перейдя
к врагу натурой,
в люди
выведя
вчерашних пешек строй,
становил
рабочей – человечьей диктатурой
над тюремной
капиталовой турой,
И ему
и нам
одно и то же дорого.
Отчего ж,
стоящий
от него поодаль,
я бы
жизнь свою,
глупея от восторга,
за одно б
его дыханье
о́тдал?!
Да не я один!
Да что я
лучше, что ли?!
Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
кто из вас
из сёл,
из кожи вон,
из штолен
не шагнёт вперёд?!
В качке —
будто бы хватил
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$вина и горя лишку —
инстинктивно
хоронюсь
трамвайной сети.
Кто
сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре
вот этой
безграничной смерти!
Со знамёнами идут,
и так.
Похоже —
стала
вновь
Россия кочевой.
И Колонный зал
дрожит,
насквозь прохожен.
Почему?
Зачем
и отчего?
Телеграф
охрип
от траурного гуда.
Слёзы снега
с флажьих
покрасневших век.
Что он сделал,
кто он
и откуда —
этот
самый человечный человек?
Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
Далеко давным,
годов за двести,
первые
про Ленина
восходят вести.
Слышите —
железный
и лужёный,
прорезая
древние века, —
голос
прадеда
Бромлея и Гужона —
первого паровика?
Капитал
его величество,
некоронованный,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$невенчанный,
объявляет
покорённой
силу деревенщины.
Город грабил,
грёб,
грабастал,
глыбил
пуза касс,
а у станков
худой и горбастый
встал
рабочий класс.
И уже
грозил,
взвивая трубы за́ небо;
– Нами
к золоту
пути мости́те.
Мы родим,
пошлём,
придёт когда-нибудь
человек,
борец,
каратель,
мститель! —
И уже
смешались
облака и ды́мы,
будто
рядовые
одного полка.
Небеса
становятся двойными,
дымы
забивают облака.
Товары
растут,
меж нищими высясь.





