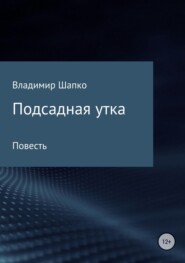По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Настольная памятка по редактированию замужних женщин и книг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Доча, уже присогнутая, налаживала на себя широкий пояс. Как будто плохо обученная лошадь. На поясницу и большой живот. Сбруя не налаживалась, съезжала. Мать бросилась, стала помогать.
– Я тоже, когда тобой ходила, напяливала такую же. Только та красивше была. В цветочек и с застёжками.
Из прихожей послышался телефонный звонок. Никак не ожидаемый женщинами.
– Ответь, – сказала дочь.
Анна Ивановна на цыпочках побежала и сняла трубку:
– Слушаем.
Сперва ничего не могла понять. Но дошло. Из Германии. Эта, как её?
– Поняла, поняла. Сейчас. Кто я? Я мама. Сейчас позову.
Так же на цыпочках прибежала. И сообщила дочери. Чуть не на ухо:
– Там эта. Из Мюнхена. Глеба требует.
Не надев толком пояс, Каменская заспешила в прихожую, схватила трубку:
– Да, Алёна Ивановна! Здравствуйте! – И тоже напряжённо слушала далёкий голос.
– Я вас поняла, Алена Ивановна, поняла. Но он с час как ушёл на работу. Звоните ему туда, он должен быть на месте. – Вдруг осмелела: – Когда вас ждать к нам в Питер на гастроли, Алёна Ивановна? Мы все… все заждались вас!
Иванова будто не услышала слов Каменской:
– Глеб мне звонил – вы ждёте ребёнка. Милая Жанна, берегите себя, не переживайте попусту, хорошо питайтесь, гуляйте на воздухе. Глеб всегда будет рядом с вами… поможет… во всём… – Голос женщины вдруг начал прерываться, и она замолчала. – …А с гастролями вряд ли что получится… У меня изменились обстоятельства… Всего вам доброго, милая Жанна. Берегите себя и ребёнка.
Каменская на аппарате заглушила гудки.
– Странная она какая-то сегодня была – говорит, а сама словно бы плачет…
Женщины онемели. Одна с забытым поясом набок, другая опрятная вся, но тоже как перекошенная…
Яшумов сидел плечом к плечу с Галиной Голубкиной. Окончательно подчищали её рукопись, чтобы отдать потом Колобову для его работы – сверстать весь текст и создать макет книги. Ну а дальше уже всё прямиком в типографию.
Яшумов показывал карандашом на свои помеченные исправления. Молодая женщина с простым деревенским лицом сразу склонялась к указанным словам. Как к совершенно незнакомым ей словам, как будто не ею даже написанным. Голова с плоским незатейливым пробором волос застывала. Женщина думала. И говорила: я согласна («Согласная я!»).
Яшумов переворачивал две-три страницы, и снова втыкал карандаш. И женщина опять читала незнакомые слова.
Включилось и заиграло белое солнце на мобильнике Яшумова. Под солнцем – название солнца аршинными буквами: АЛЁНКА.
Яшумов схватил телефон:
– Да, Алёна, да! Здравствуй, родная!
Далёкая женщина поздоровалась и сразу заплакала.
– Что такое, что? Что случилось? – Делая Голубкиной большие глаза, Яшумов двинулся в коридор и закрыл за собой дверь.
– Что, что произошло?
– Дитрих… Дитрих умер… Глеба…
– Когда? Как? Отчего?
– Вчера… – всё плакала женщина. – Утром… на репетиции… стало плохо… упал… без меня… мне нужно было позже… на час… пришла, а его уже выносят на носилках… мёртвого… Глеба!..
Яшумов что-то бормотал, успокаивал. Говорил, что приедет. Прилетит. Ближайшим же рейсом! Алёна!
Но женщина уже не плакала, говорила, видимо, вытирая слёзы:
– Нет, Глеб. Не нужно тебе лететь. Извини, что позвонила. Что гружу тебя. Но у меня нет ближе тебя никого. А друзей здесь у меня нет. Всех оставила, растеряла в России. Извини меня, дорогой. И на наш с тобой телефон зря позвонила. Думала, что ты ещё дома. Жанну только взбаламутила. Не говори ей ничего о смерти. Это ей не нужно совсем. В её положении. А уж я как-нибудь сама…
Женщина опять заплакала:
– Упал, Глеба!.. Мне рассказали… Прямо со скрипкой… На пол… Все вскочили. Никто не знает, что делать… А он лежит… на полу… прямо на скрипке… Как разбитое сердце своё зажал. Спрятал от всех! Глеба!..
– Ну успокойся, нельзя так, не надо, Алёнка, я же хотел, я всегда, не надо, прошу тебя…
Держал погасший телефон перед собой, словно не верил услышанному.
Голубкина при виде главного редактора поднялась со стула – лицо Глеба Владимировича было белым, а нос-картошка красным.
– Глеб Владимирович, у вас несчастье?
– Да, Галя, несчастье, – сел за стол, ничего не видел на нём Яшумов. – У близкого родного мне человека. Сегодня давайте отложим, Галя. Завтра. Завтра с утра приходите.
Голубкина взяла свой блокнот и ручку, сказала «до свидания» и тихо вышла.
Однако почти сразу возник в дверях Михаил Гриндберг. Похожий на гордого орла в очках. С папкой под мышкой.
– Завтра, Миша, завтра приходите, – поднял бессильную руку Яшумов.
Гриндберг сразу потупился. Стал орлом застенчивым. Удерживал папку обеими руками. Лапами. Внизу живота.
Ни слова не сказав, попятился. Пропал.
Вечером опять стоял Яшумов на мосту о четырёх львах. В культовом своём месте. Куда приходил и в радости, и в печали. Всё так же проносились внизу вспыхивающие пузыри. Окна вечерних домов походили на теплящиеся могилы.
Жалко было Алёнку до слёз. Бедного Дитриха её не знал, не видел, ни разу не разговаривал даже по телефону. Родители его были то ли из Поволжья, то ли из Казахстана. Может быть, поэтому парень мало походил на расчётливого немца. Не лез никуда, не копил, не делал карьер. Лет пятнадцать назад, как прошёл конкурс в оркестр на третий пульт первых скрипок, так и просидел за третьим пультом, не стремясь подняться выше. Хотя скрипачом, по словам Алёны, был сильным, и мог бы стать концертмейстером оркестра. Не случайно, наверное, они нашли там друг друга. Оба с несмываемыми клеймами пожизненных русаков. Хотя были и другие охотники на концертную денежную корону Алёны Ивановой. Были. И в самом оркестре, и вокруг него, в музыкальной тусовке. Но – нет. Дитрих. Простоватый, не практичный, по мнению настоящих немцев, малый. Большая квартира в Мюнхене с неба ему упала. Не от родителей даже с Поволжья – от двоюродного деда. По завещанию. Настоящего немца. Крупного предпринимателя. В его квартире, как оказалось, очень страдали потом молодые муж и жена, когда потеряли свою дочку. Которая родилась больной и года даже не прожила. О здоровье самого Дитриха Алёна не говорила. Может быть, и вполне здоровым был. И вот – умер. Умер в одночасье…
Яшумов всё смотрел на бегущую воду. На отражённую, слезящуюся на воде луну…
Дома в кухне была только Анна Ивановна. Как всегда не услышала хлопнувшей двери. Однако воскликнула:
– Ой, смотрите скорей! Животики надорвёте!