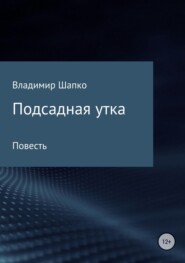По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Настольная памятка по редактированию замужних женщин и книг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тоже как обезумела, в кухне давай выкладывать на доску муку, яйца, соль, сразу замешивать, мять тесто для пельменей. Раскатывать. Лепила пельмешки быстро, быстрее мамы с папой.
Прошёл час. Два. Три. Женщины из Мюнхена не было. Успела всё сготовить, шикарно накрыть в гостиной. Одна скатерть чего стоила: белая, с жёлтыми кистями до пола. Расставила всё на ней. Обеденные приборы (три), бокалы, салаты. Оливьюшку даже успела сделать. Вода на маленьком газу для пельменей парит. А «женщины из Мюнхена» всё нет.
Наконец втащились в прихожую. Глеб с пузатым чемоданом на колёсиках, а женщина в обыкновенном сером плаще. С плоской сумкой через плечо. Ну, нужно познакомиться, наверное? Муж показывает на жену, как на витрину: моя Жанна. Познакомьтесь, пожалуйста. Женщина в светлых кудельках крепко пожимает руку: «Алёна». Скидывает плащ и сразу как дома идёт в гостиную…
И вот стоит теперь перед ящиком и только что не плачет…
Стало доходить. Приехавшая Алёна – это Алёнка. Из детства Глеба. Рассказывал однажды. Точно. Она. Вот тебе и «женщина из Мюнхена».
Сели за стол. Алёнка – как с голодного мыса – сразу стала налегать. Сперва на оливьюшку. А потом и на пельмени. Мотала в восхищении кудельками, нахваливала. Конечно, приятно было слышать. Но о чём говорили они – было понятно мало. О какой-то школе для одарённых. О педагогах её. О концертах. О каком-то Дитрихе. Они были точно одни за столом. Будто никого больше рядом не было. И это называется – культура. Иногда Яшумов всё же пояснял. На ухо: «Это она о бабушке, об Арине Михайловне». А Алёнка эта спросит что-нибудь у тебя, и тут же забудет. И только нахваливает: «Как замечательно вы готовите, Жанна! Глебка, тебе здорово повезло». И опять они о своём. Хоть вставай из-за стола и уходи. Чёрт бы вас побрал! Ладно, спасало то, что нужно было утаскивать посуду и приносить новую еду. Этой ненасытной Алёнке. И куда только лезет в такую? Тощая, почти без груди, попка в джинсах проваливается. Зато руки – ручищи. Загребущие. С длинными цепкими пальцами.
– Сыграй, Алёнка, – вдруг сказал Глеб. – Давно тебя не слышал.
Женщина подошла к ящику, локтем оперлась на верхнюю крышку и одним длинным указательным пальцем начала тыкать клавиши. Неуверенно, по одной. Вроде бы знакомая мелодия заспотыкалась:
– Чижик, пыжик, где ты был?.. На Фонтанке водку пил… Выпил рюмку, выпил две – закружилось в го-ло-ве…
И это всё? И это большой музыкант? Повернулась даже к мужу: А?
Алёнка подмигнула Глебу и села на вертящийся стульчик. И началось что-то непонятное. Сначала вместе с её пальцами как бы бегали по клавишам только два чижика-пыжика. Только два пыжика хлопали рюмки. Потом к ним прибавился третий. Который хлопал рюмки в стороне. Тихо, тайно. Как алкаш. Дальше уже четыре чижика-пыжика разбегались по всей клавиатуре. Или вдруг неслись то в одну сторону, то в другую. «Браво! Браво, Алёнка!» – подстёгивал Глеб. И музыкантша вдруг пошла лупить клавиши всеми десятью своими чижиками. Да так, что ящик загудел! Это было какое-то чудо. Просто башку сносило. Тут впору самой пуститься в пляс и начать хлопать рюмки. С её чижиками-пыжиками. Да-а. Вот так женщина из Мюнхена, вот так Алёнка.
И, главное, как ни в чём не бывало садится обратно к столу, берёт банан с раскрытыми лепестками и скусывает макушку. И говорит: «Фа диез всё так же секундит». «Сделаю, сделаю!» – целует ей руки Глеб, тоже со снесённой башкой: – Спасибо, спасибо!».
Потом она пошла в комнату для гостей, присела на кровать – старинную, с пампушками, где теперь всегда спали папа и мама, – стала гладить атласное одеяло. И заплакала, закрываясь рукавом кофты. «Здесь спала бабушка её, Арина Михайловна», – шептал Глеб и тоже шмыгал. И стало неудобно почему-то, стыдно. Хоть бы предупредил, что это была их с бабкой комната. Что-нибудь сменила бы в ней. Хотя бы на этой кровати. Одеяло, что ли. Подзор. «Прости, Алёнка, – говорил Глеб. – Твою кроватку мы давно убрали». Музыкантша только махнула рукой. И всё плакала и гладила чужое одеяло…
…В то утро как обычно Яшумов пришёл на работу в половине девятого. Редакция была ещё пустой. Только художник Гербов уже сидел, подпёр щёку, обдумывал рисунок. Два трудоголика крепко пожали друг другу руки.
У себя Яшумов прежде всего прибрался на рабочем столе. Это туда, это сюда, компьютер включить. Принтер опять не заменили! Сколько говорить компьютерщику! Точно не веря в поломку, – включил. Принтер заскрежетал, выпустил пол-листа и умолк, остановился. Безобразие!
Зазвонил телефон. Гербов забыл что-то сказать? «Да, Игорь Николаевич». Вместо Игоря ударил мгновенно узнанный голос: «Здравствуй, Глебка. Как жизнь твоя, дорогой, как здоровье?»
Что-то говорил в ответ, кричал. А женщина из Мюнхена уже сообщала: «Буду в Питере два дня. Встреть, пожалуйста, в Пулково. Обнимемся. Запиши номер рейса и время. Сможешь с работы уйти?» – «Смогу, смогу! Всё записал. Сейчас в аэропорт! Я так рад, Алёнка, так рад!»
До самолёта было ещё уйма времени, но сидеть в редакции не мог. Сразу позвонил, предупредил жену. Та ничего не поняла. Да ладно, ладно! Бросив всё на столе, быстро одевался. Сказал Гербову, что часа на два уйдёт. «Скажите, пожалуйста, Акимову». И выскочил на улицу.
Шофёр такси гнал, но поглядывал в зеркало на странного пассажира. Который всё время улыбался. Как дурак. Или вдруг начинал ерошить свои длинные волосы, явно вспомнив что-то смешное. И опять с блаженной улыбкой застывал. Туканутый!
Пять лет назад Алёнка прилетала с испанским оркестром. Играла 21-й концерт Моцарта и концерт Бриттена. И в первый вечер, и во второй успех был ошеломляющим. Оркестру нужно играть программу дальше, а меломаны беснуются, не отпускают Алёнку со сцены. Заставляют вновь и вновь садиться и играть. Во второй вечер дошло до того, что дирижёр приобнял героиню в длинном платье и повёл со сцены. Как свою подругу. Под смех и ещё более яростные аплодисменты. Да-а. И вот теперь будет играть с местным оркестром. Филармоническим. Господи, Алёнка! Ты ли это та девчонка с косичками? С тобой ли мы вместе разбивали наше старое пианино? Опять всё без ответа.
На радостях заплатил шофёру две тысячи вместо тысячи двухсот. «Сдачи не нужно!» – воскликнул. И, как оказалось, зря. Привёз таксист не туда.
В зале нового терминала сразу вытаращился на «Летящего ангела». Под потолком подвешенного под самолётные крылья с реактивными двигателями. Голый ангел явно женского пола задрал руки и как будто уже падал, летел к земле с самолётом, крича, погибая. Мало того, что безвкусица висела запредельная – скульптор-модернист изваял натуральную катастрофу. И это в аэропорту! В зале… А в каком?
Огляделся. Вдоль длинного высокого помещения стояли к стойкам пассажиры с чемоданами и без. Явно собирались улетать, а не наоборот. Господи! Да не туда же попал!
Пока метался, выходил из зала – ещё увидел двух или трёх ангелов. Уже после «катастрофы». Поникше сидящих на полу с самолётными своими крыльями. Или уже лежащих. Уткнутых прямо в пол. С крыльями распластанными.
Только в зале прилёта пришёл в себя. Ждал, неспешно прогуливался. В высоченном тоннелеобразном помещении дикторский женский голос, казалось, тоже падал со сферы потолка. Которая олицетворяла, видимо, необъятный космос в круглых светящих дырах.
Наконец объявили прилёт из Мюнхена. Нужно было ждать ещё минут двадцать, а то и полчаса, но встречающие сразу потянулись к нужному раскрытому выходу.
Стали появляться первые пассажиры. Алёнка в сером плаще бойко шагала с большим чемоданом на колёсиках и с плоской нотной сумкой через плечо.
Обнялись. Сквозь плащ чувствовал худую спину женщины. «Ну, ну, – успокаивали его. – Жива же, здорова».
Подхватил чемодан, повёз. Плаксивое своё лицо отворачивал. Как будто женщина его обидела.
В такси держал худую, костистую, но горячую руку, говорил не переставая. Показывал на пролетающие дома. Что-то объяснял про них туристке. Но женщина смотрела на поседевшие длинные волосы мужчины, на родной нос картошкой, и сама готова была плакать. Она хорошо помнила, что сделали для неё Яшумовы. Надежда Николаевна и Владимир Константинович. И маленький Глебка. Для неё, деревенской девчонки, в семь лет приехавшей с матерью жить в Питер.
4
…Глебку всё время отвлекал орган за высокой сценой. Орган казался выдвинутым углом очень высокого дощатого сарая. Интересно, где там садится музыкант, чтобы играть на этом сарае? «Не отвлекайся, – наклонялась мама. – Слушай скрипку».
Великовозрастная девчонка-скрипачка, пушистая и тонконогая, как коза, давала смычком уверенное арпеджиато. По всем четырём струнам скрипки. Пригнувшийся за роялем аккомпаниатор садил для неё аккорды.
Глебка смотрел на пять высоких окон с дневным светом, переводил взгляд на слушателей, и взрослых, и детей. Словно пересчитывал их внимательные головы. С облегчением похлопал пушистой со скрипкой, когда она закончила.
Ещё был один. Мальчишка. С большим саксофоном. Будто с громадной сосательной конфетой. С которой он раскачивался, откидывался назад и гнулся в три погибели. Похлопал и ему.
Наконец ведущая отчётного концерта школы, высокая тётя в богатом платье, опять вышла как бы с цветами на груди. Громко сказала:
– Вольфганг Амадей Моцарт. Соната для фортепиано № 16 (до мажор). Исполняет ученица первого класса Иванова Алёна. Класс доцента Пономарёвой Зои Павловны.
Мелочь вроде Глебки сразу захлопала в первых рядах. Мамы и папы мелочи даже не шевельнулись. Будто каменные гости.
Алёнка появилась откуда-то из-за органа, быстро пошла к роялю. Была она в белом кружевном фартуке, коричневом платьице и с большим белым бантом на голове (мама, мама постаралась!). Кивнула залу (как бы поклонилась). Села к стейнвею и сразу начала крутить колёсики с двух сторон стула с мягким сидением. Поднимать сидение выше. Накручивала, накручивала колёсики. И замерла, глядя вверх. На потолок. А может, на Бога. И заиграла.
До мажорная соната Моцарта полилась свободно, легко, весело. Правая рука набрасывала, рисовала тему, а левая изображала быстрое тремоло. В конце каждого периода части Алёнка давала глубокий аккорд обеими руками. И снова весёлая тема в правой руке, и быстрое тремоло в левой.
Глебка знал до мажорную от первой до последней ноты, Алёнка надоела с ней дома до чёртиков, но здесь в зале на стейнвее соната звучала неузнаваемо, захватывала. Да и Алёнка казалась совсем не Алёнкой, а какой-то другой девчонкой. Сидящей на самом краю сидения. С прямыми, упёртыми в педали ножками в белых гольфиках с мячиками.
После убедительного Алёнкиного аккорда, завершившего первую часть, какой-то первоклаш, видимо, дружок Алёнки, не удержался и захлопал из первого ряда. Но его сразу уняли другие первоклассники школы. Все они уже знали: между частями хлопать нельзя. И Алёнка, словно выйдя из обиды, смогла продолжить. Заиграла Анданте кантабиле. В зал полилась светлая щемящая грусть.
После окончания этой части первоклаш в первом ряду больше не хлопал, а только сидел, склонив голову набок. Видимо, грустил или даже плакал. Мама рядом тоже достала платок и вытерла слёзы. Глебка сжал её руку.
И вот третья часть понеслась. Рондо. Быстрое. Глебке казалось, что это фрейлины и пажи парами поскакали в танце. То в одну сторону сцены грациозно скачут, то уже в другую. Здорово!
С последним аккордом Алёнки зал, как говорят всегда, взорвался аплодисментами. Первоклассники дубасили в ладошки. Глебка тоже. Мама тискала руку тётеньке рядом, педагогу Алёнки: «Спасибо, Зоя! Спасибо!» А Алёнка только резко поклонилась и пошла со сцены. И скрылась опять за органом. Но публика хлопала и хлопала. Ведущая улыбалась, ждала Алёнку. Та вышла и ещё раз поклонилась. Более глубоко. И вновь ушла. И только тогда ведущая смогла объявить следующего ученика.
Это был первый концерт, на котором Глебка из зала слушал играющую на сцене Алёнку…
– Помнишь свой первый концерт, Алёна? – спросил в такси из аэропорта. – В большом зале школы?
– Ещё бы, – улыбнулась женщина. – Ты хлопал как ненормальный. Не давал начать вторую часть.
– Да не я это был, не я! – смеялся Яшумов. – Твой первоклаш-воздыхатель! Кстати, где он сейчас страдает?
– Он, как ты выразился, «страдает» сейчас здесь. В филармоническом. Первая флейта. Увидишь его и услышишь завтра на концерте…